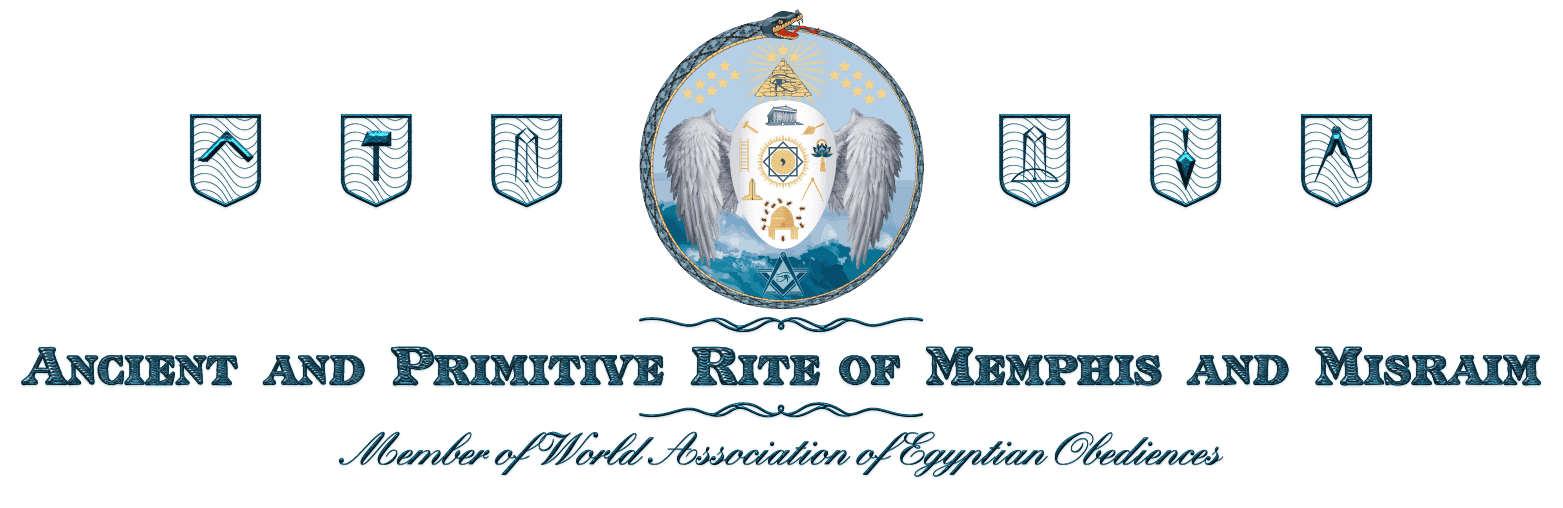Фра:. Ураниэль Альдебаран 33º, 90º, 97º, 98° SIIEM, 99º Hon WAEO, K:.O:.A:.
Пролог: Тайны белорусской земли
Истоки масонства на белорусских землях
Первые шаги тайного братства
Ложа «Счастливого освобождения» в Гродно
Ложа «Добрый пастырь» в Несвиже
Ложа «Совершенное согласие» в Могилеве
Масонство и Просвещение на белорусских землях
Масонство в эпоху перемен: конец XVIII — начало XIX века
Масонство после разделов Речи Посполитой
Масонство и национально-освободительное движение
Масонство и культурная жизнь Беларуси в первой половине XIX века
Масонство в эпоху реформ и реакции: вторая половина XIX века
Масонство в период либеральных реформ Александра II
Масонство в эпоху реакции: 1880-е — начало 1900-х годов
Масонство в эпоху революций и перемен: начало XX века
Возрождение масонства в период первой русской революции
Масонство в предреволюционный период (1908-1917)
Масонство в период революционных потрясений (1917-1921)
Масонство в советский период и годы независимости
Масонство в условиях советской власти (1922-1991)
Возрождение интереса к масонству в независимой Беларуси (с 1991 года)
Пролог: Тайны белорусской земли
Холодным осенним вечером 1776 года в Гродно, в одном из старинных особняков, собралась группа людей. Свечи отбрасывали причудливые тени на стены, украшенные гобеленами и картинами. Среди собравшихся можно было узнать известных в городе лиц: здесь был и сам хозяин дома, Антоний Тызенгауз, королевский подскарбий и староста гродненский, и молодой офицер Ян Ежи Флемминг, и представитель знатного рода Сапег – Казимир Нестор. Но сегодня они собрались не как представители власти или аристократии. Сегодня они встретились как братья, объединенные общей тайной.
«Братья, – начал Тызенгауз, – сегодня знаменательный день. Мы закладываем первый камень в основание нашей ложи ‘Счастливого освобождения’. Пусть свет разума и братской любви озарит наш путь!»
Так началась история первой документально подтвержденной масонской ложи на территории современной Беларуси. Но это было лишь началом долгой и захватывающей истории тайного братства на белорусских землях.
Истоки масонства на белорусских землях
Первые шаги тайного братства
Масонство пришло на земли современной Беларуси во второй половине XVIII века, в эпоху Просвещения. Это было время великих перемен, когда старый мир феодализма постепенно уступал место новым идеям свободы, равенства и братства. Беларусь, находившаяся тогда в составе Речи Посполитой, не осталась в стороне от этих процессов.
Первые масонские ложи на белорусских землях были тесно связаны с польской культурой и традициями. Они использовали польский язык в своих ритуалах и документах, а их члены в основном принадлежали к шляхетскому сословию. Однако было бы ошибкой считать масонство того времени исключительно польским явлением. Среди членов лож были представители различных национальностей и вероисповеданий, объединенные общими идеалами и стремлением к самосовершенствованию.
Ложа «Счастливого освобождения» в Гродно
Ложа «Счастливого освобождения» («Szczęśliwego Oswobodzenia»), основанная в Гродно в 1776 году, стала первой официально зарегистрированной масонской организацией на территории современной Беларуси. Ее основатель, Антоний Тызенгауз, был яркой и противоречивой фигурой своего времени.
Родившийся в 1733 году в семье литовского шляхтича, Тызенгауз сделал блестящую карьеру при дворе польского короля Станислава Августа Понятовского. Став подскарбием надворным литовским и старостой гродненским, он развернул масштабную деятельность по экономическому и культурному развитию вверенных ему территорий.
В Гродно по инициативе Тызенгауза были основаны многочисленные мануфактуры, построены новые здания, открыты школы и даже театр. Его деятельность во многом соответствовала масонским идеалам просвещения и прогресса. Неудивительно, что именно он стал инициатором создания масонской ложи в городе.
Ложа «Счастливого освобождения» быстро стала центром интеллектуальной и культурной жизни Гродно. Ее члены регулярно собирались для проведения ритуалов, обсуждения философских вопросов и планирования благотворительных акций. Среди наиболее активных членов ложи были:
Ян Ежи Флемминг (1762-1794) – молодой офицер, представитель знатного рода Флеммингов. Несмотря на свой юный возраст (на момент основания ложи ему было всего 14 лет), Флемминг быстро стал одним из самых активных масонов Гродно. Позже он сделал блестящую военную карьеру, дослужившись до чина генерал-лейтенанта войск литовских. Флемминг погиб в 1794 году во время восстания Костюшко, до конца оставаясь верным масонским идеалам свободы и братства.
Казимир Нестор Сапега (1757-1798) – представитель одного из самых влиятельных родов Великого княжества Литовского. Сапега был не только масоном, но и активным политическим деятелем. Он участвовал в работе Четырехлетнего сейма (1788-1792) и был одним из авторов Конституции 3 мая 1791 года – первой в Европе и второй в мире после американской. Деятельность Сапеги как масона и политика была направлена на реформирование и модернизацию Речи Посполитой.
Ложа «Счастливого освобождения» поддерживала тесные связи с другими масонскими организациями Речи Посполитой и Европы. Ее члены регулярно посещали ложи в Варшаве, Вильно и других городах, обмениваясь опытом и идеями. Это способствовало распространению прогрессивных идей Просвещения на белорусских землях.
Однако судьба ложи, как и ее основателя, оказалась непростой. В 1780 году Тызенгауз впал в немилость у короля и был отстранен от всех должностей. Это нанесло серьезный удар по деятельности ложи, хотя она и продолжала функционировать. Сам Тызенгауз умер в 1785 году, оставив после себя противоречивое наследие: с одной стороны, его деятельность способствовала экономическому и культурному развитию региона, с другой – привела к усилению эксплуатации крестьян и росту социальной напряженности.
Ложа «Добрый пастырь» в Несвиже
В то время как в Гродно процветала ложа «Счастливого освобождения», в другом уголке белорусских земель, в Несвиже, зарождалась еще одна масонская организация. В 1781 году здесь была основана ложа «Добрый пастырь» («Dobry Pasterz»).
Несвиж, родовое гнездо князей Радзивиллов, был одним из важнейших культурных и политических центров Великого княжества Литовского. Неудивительно, что именно здесь возникла одна из первых масонских лож на белорусских землях.
Основателем и первым мастером ложи стал князь Кароль Станислав Радзивилл, известный под прозвищем «Пане Коханку» (1734-1790). Это была одна из самых колоритных фигур своего времени. Радзивилл славился своим гостеприимством, любовью к роскоши и экстравагантным поведением. Его прозвище «Пане Коханку» («Господин Любимый») происходило от его привычки так обращаться к собеседникам.
Несмотря на свою репутацию эксцентричного аристократа, Радзивилл был человеком образованным и любознательным. Он много путешествовал по Европе, где, вероятно, и познакомился с масонскими идеями. Вернувшись в Несвиж, князь решил основать собственную ложу.
Ложа «Добрый пастырь» быстро стала центром интеллектуальной жизни Несвижа. Ее собрания проходили в замке Радзивиллов – величественном архитектурном комплексе, который сам по себе был воплощением масонских идей гармонии и совершенства.
Среди членов ложи были представители местной элиты, интеллектуалы и деятели культуры. Особо стоит отметить двух выдающихся личностей:
- Михал Казимир Огинский (1730-1800) – государственный деятель, композитор и меценат. Огинский был не только масоном, но и выдающимся музыкантом. Он написал множество полонезов, которые стали важной частью музыкальной культуры региона. Его племянник, Михал Клеофас Огинский, продолжил музыкальные традиции семьи и стал автором знаменитого полонеза «Прощание с Родиной».
- Матей Радзивилл (1749-1800) – сын Кароля Станислава Радзивилла, последний воевода виленский. Матей разделял масонские увлечения отца и активно участвовал в работе ложи. Он был известен своими либеральными взглядами и поддерживал реформы Четырехлетнего сейма.
Деятельность ложи «Добрый пастырь» не ограничивалась только ритуалами и философскими беседами. Под руководством Кароля Станислава Радзивилла масоны Несвижа активно занимались благотворительностью и просветительской деятельностью. Они поддерживали местные школы, помогали бедным, способствовали развитию искусств.
Особое внимание уделялось театру. При дворе Радзивиллов существовала театральная труппа, которая ставила как классические, так и современные пьесы. Многие из этих постановок несли в себе масонские идеи и символику, хотя зрители могли об этом и не догадываться.
Ложа «Добрый пастырь» поддерживала тесные связи с другими масонскими организациями региона. Ее члены регулярно посещали ложи в Вильно, Минске и других городах. Это способствовало обмену идеями и распространению масонского влияния на белорусских землях.
Однако судьба ложи оказалась непростой. После смерти Кароля Станислава Радзивилла в 1790 году она постепенно пришла в упадок. Политические события – разделы Речи Посполитой и последующее включение белорусских земель в состав Российской империи – нанесли серьезный удар по масонскому движению в регионе.
Ложа «Совершенное согласие» в Могилеве
В то время как на западе белорусских земель процветали ложи в Гродно и Несвиже, на востоке, в Могилеве, возникла еще одна значимая масонская организация – ложа «Совершенное согласие» («Doskonała Jedność»).
Могилев, расположенный на берегу Днепра, был важным торговым и культурным центром. Город находился на перекрестке путей между Польшей, Литвой и Россией, что делало его идеальным местом для распространения новых идей, в том числе и масонских.
Ложа «Совершенное согласие» была тесно связана с деятельностью Семена Гавриловича Зорича (1743-1799), одной из самых интригующих фигур своего времени. Зорич, серб по происхождению, сделал блестящую карьеру в России, став генерал-лейтенантом и фаворитом императрицы Екатерины II.
После потери расположения императрицы в 1778 году, Зорич поселился в своем имении Шклов, недалеко от Могилева. Здесь он развернул бурную деятельность, превратив провинциальное местечко в центр культуры и образования.
Главным детищем Зорича стал Шкловский благородный училище (позже переименованное в кадетский корпус), основанное в 1778 году. Это учебное заведение быстро приобрело репутацию одного из лучших в Российской империи. Здесь преподавали не только военные дисциплины, но и иностранные языки, философию, естественные науки.
Многие преподаватели и воспитанники училища были связаны с масонской ложей «Совершенное согласие». Сам Зорич, хотя и не было прямых доказательств его членства в ложе, поддерживал тесные контакты с масонами и разделял многие их идеи.
Ложа «Совершенное согласие» отличалась от других масонских организаций региона своим космополитическим характером. Если в Гродно и Несвиже преобладало польское влияние, то в Могилеве собрались представители разных национальностей и культур. Здесь можно было встретить поляков, русских, белорусов, немцев и представителей других народов.
Эта особенность во многом была обусловлена личностью Зорича и характером созданного им учебного заведения. В Шкловском училище обучались дети из разных уголков Российской империи, а преподаватели приглашались из лучших европейских университетов. Такое смешение культур создавало уникальную атмосферу, благоприятную для распространения масонских идей о всеобщем братстве и равенстве.
Деятельность ложи «Совершенное согласие» была многогранной. Помимо традиционных масонских ритуалов и философских бесед, ее члены активно занимались просветительской и благотворительной деятельностью. Они поддерживали местные школы, помогали бедным, способствовали развитию науки и искусства.
Особое внимание уделялось образованию. При поддержке масонов в Шкловском училище была собрана богатая библиотека, включавшая не только учебную литературу, но и философские трактаты, научные труды, художественные произведения. Многие из этих книг были запрещены цензурой, но благодаря покровительству Зорича, они были доступны учащимся и преподавателям.
Среди наиболее активных членов ложи «Совершенное согласие» стоит отметить:
Август Гейкинг (1752-1815) – курляндский барон, педагог и писатель. Гейкинг был одним из ведущих преподавателей Шкловского училища и активным масоном. Он оставил интересные мемуары, в которых описал жизнь и нравы могилевского общества конца XVIII века, в том числе и деятельность масонской ложи.
Михаил Николаевич Муравьев (1757-1807) – русский поэт, писатель и государственный деятель. Муравьев некоторое время преподавал в Шкловском училище и был связан с ложей «Совершенное согласие». Позже он стал одним из наставников будущего императора Александра I и сыграл важную роль в распространении масонских идей в высших кругах российского общества.
Иван Григорьевич Спасский (1745-1802) – врач, один из основоположников русской психиатрии. Спасский был не только масоном, но и увлекался алхимией и оккультными науками. Его деятельность способствовала распространению в ложе интереса к эзотерическим учениям.
Ложа «Совершенное согласие» поддерживала тесные связи с другими масонскими организациями как в Российской империи, так и за ее пределами. Ее члены регулярно посещали ложи в Санкт-Петербурге, Москве, Варшаве и других городах, обмениваясь опытом и идеями.
Однако судьба ложи, как и Шкловского училища, оказалась непростой. В 1797 году, после вступления на престол императора Павла I, Зорич впал в немилость. Училище было переведено в Гродно, а затем в Смоленск, где стало основой для Смоленского кадетского корпуса. Это нанесло серьезный удар по деятельности ложи «Совершенное согласие».
Тем не менее, влияние могилевских масонов на культурную и интеллектуальную жизнь региона было значительным и долговременным. Многие выпускники Шкловского училища, познакомившиеся здесь с масонскими идеями, позже стали видными деятелями науки, культуры и политики.
Масонство и Просвещение на белорусских землях
Распространение масонства на белорусских землях во второй половине XVIII века было тесно связано с идеями Просвещения. Масонские ложи стали центрами распространения новых философских, научных и политических идей, способствуя интеллектуальному и культурному развитию региона.
Одной из ключевых фигур, связавших масонство и Просвещение на белорусских землях, был Казимир Нарбут (1738-1807). Нарбут, профессор Виленской академии (позже преобразованной в университет), был не только активным масоном, но и выдающимся философом и ученым. Его труды по логике и этике, написанные в духе идей Просвещения, оказали значительное влияние на развитие философской мысли в регионе.
Масонские ложи активно поддерживали развитие образования. При их поддержке открывались новые школы, издавались учебники, приглашались лучшие преподаватели из Европы. Особое внимание уделялось естественным наукам и математике, которые рассматривались масонами как ключ к пониманию законов природы и устройства мироздания.
В области культуры влияние масонства также было значительным. Многие писатели, поэты и художники того времени были связаны с масонскими ложами. Масонская символика и идеи нашли отражение в литературе, живописи и архитектуре.
Одним из ярких примеров влияния масонства на культуру региона стало творчество Франциска Карпинского (1741-1825). Карпинский, известный польский поэт и драматург, родившийся на территории современной Украины, долгое время жил и работал на белорусских землях. Будучи масоном, он отразил в своих произведениях многие масонские идеи, в частности, стремление к нравственному совершенствованию и гармонии с природой.
Масонские ложи также способствовали развитию научной мысли. При их поддержке проводились астрономические наблюдения, ботанические и геологические экспедиции. Многие масоны увлекались алхимией и оккультными науками, что, несмотря на кажущуюся противоречивость, часто приводило к реальным научным открытиям.
Важно отметить, что масонство на белорусских землях не было однородным явлением. Существовали различные направления и течения, от рационалистического масонства, близкого к идеям Просвещения, до мистических и оккультных ответвлений. Эта многогранность отражала сложность и разнообразие интеллектуальной жизни региона в конце XVIII века.
Влияние масонства и идей Просвещения не ограничивалось узким кругом интеллектуальной элиты. Через деятельность масонских лож эти идеи постепенно проникали в более широкие слои общества, способствуя формированию нового мировоззрения и системы ценностей.
Однако распространение масонства и идей Просвещения на белорусских землях сталкивалось и с определенными трудностями. Консервативная часть общества, особенно высшее духовенство и некоторые представители шляхты, относились к новым идеям с подозрением и враждебностью. Масонов часто обвиняли в подрыве традиционных устоев и распространении вольнодумства.
Несмотря на это, влияние масонства на интеллектуальную и культурную жизнь белорусских земель в конце XVIII века было значительным и долговременным. Оно заложило основу для дальнейшего развития науки, философии и искусства в регионе, подготовив почву для культурного подъема XIX века.
Масонство в эпоху перемен: конец XVIII — начало XIX века
Масонство после разделов Речи Посполитой
Конец XVIII века стал переломным моментом в истории белорусских земель. Разделы Речи Посполитой (1772, 1793, 1795 гг.) привели к тому, что территория современной Беларуси оказалась в составе Российской империи. Эти политические изменения оказали значительное влияние на развитие масонского движения в регионе.
Первоначально российские власти относились к масонству на присоединенных землях достаточно терпимо. Многие высокопоставленные чиновники и военные, направленные в новые губернии, сами были масонами и поддерживали деятельность лож. Это создавало своеобразный мост между старой польско-литовской элитой и новой российской администрацией.
Одним из ярких примеров такого взаимодействия стала деятельность Якова Ивановича Булгакова (1743-1809). Булгаков, российский дипломат и государственный деятель, был назначен гражданским губернатором Минской губернии в 1796 году. Будучи активным масоном, он способствовал сохранению и развитию масонских лож в регионе.
Под покровительством Булгакова в Минске продолжала действовать ложа «Северный факел», основанная еще в 1787 году. Эта ложа стала своеобразным центром притяжения для местной интеллектуальной элиты, как польской, так и русской. Здесь обсуждались не только философские и эзотерические вопросы, но и проблемы управления новыми территориями, интеграции местного населения в состав Российской империи.
Однако положение масонства на белорусских землях оставалось сложным и неоднозначным. С одной стороны, многие ложи продолжали работать, опираясь на поддержку влиятельных покровителей. С другой стороны, российские власти с подозрением относились к организациям, связанным с польской культурной традицией, опасаясь, что они могут стать центрами сопротивления.
Эти опасения не были беспочвенными. Некоторые масонские ложи действительно становились местом встречи патриотически настроенных представителей польской и литовской шляхты, мечтавших о восстановлении независимости Речи Посполитой. Особенно ярко эта тенденция проявилась в деятельности ложи «Совершенный союз» в Вильно, которая имела тесные связи с масонскими организациями на белорусских землях.
Важную роль в сохранении и развитии масонства на белорусских землях в этот период сыграл князь Адам Чарторыйский (1770-1861). Чарторыйский, происходивший из знатного польско-литовского рода, сделал блестящую карьеру при российском дворе, став близким другом императора Александра I и министром иностранных дел. Будучи масоном высоких степеней, он использовал свое влияние для защиты масонских лож на территории бывшей Речи Посполитой.
Под покровительством Чарторыйского в начале XIX века на белорусских землях возникли новые масонские ложи. Одной из наиболее значимых стала ложа «Усердный литвин» в Минске, основанная в 1816 году. Эта ложа объединила представителей местной элиты, стремившихся сохранить культурные традиции Великого княжества Литовского в новых политических условиях.
Однако положение масонства оставалось неустойчивым. Политические события, в частности, наполеоновские войны и польское восстание 1830-1831 годов, привели к усилению подозрительности властей по отношению к тайным обществам. Многие масонские ложи были вынуждены свернуть свою деятельность или уйти в глубокое подполье.
Тем не менее, влияние масонства на культурную и интеллектуальную жизнь белорусских земель в этот период было значительным. Масонские идеи о братстве, равенстве и стремлении к самосовершенствованию нашли отражение в литературе, искусстве и общественной мысли. Они подготовили почву для развития национального самосознания и культурного возрождения белорусского народа в XIX веке.
Масонство и национально-освободительное движение
Начало XIX века было отмечено ростом национально-освободительных настроений на землях бывшей Речи Посполитой. Масонские ложи, с их идеалами свободы и равенства, часто становились центрами патриотического движения. Эта тенденция ярко проявилась и на белорусских землях.
Одним из ключевых событий этого периода стало восстание 1830-1831 годов, известное также как Ноябрьское восстание. Хотя центром восстания была Варшава, оно нашло широкий отклик и на белорусских землях. Многие масоны приняли активное участие в этих событиях.
Особо стоит отметить роль Эмилии Плятер (1806-1831), ставшей одним из символов восстания. Плятер, происходившая из знатного рода и получившая хорошее образование, была связана с масонскими кругами. Вдохновленная масонскими идеалами свободы и равенства, она сформировала собственный отряд повстанцев и участвовала в боевых действиях на территории современной Литвы и Беларуси.
Другой яркой фигурой, связавшей масонство и национально-освободительное движение, был Игнатий Домейко (1802-1889). Домейко, уроженец Новогрудчины, получил образование в Виленском университете, где познакомился с масонскими идеями. Он принял активное участие в восстании 1830-1831 годов, а после его подавления был вынужден эмигрировать.
Судьба Домейко сложилась удивительным образом. Оказавшись в Чили, он стал выдающимся ученым и реформатором образования, заслужив титул «просветителя Чили». При этом Домейко никогда не забывал о своей родине и масонских идеалах, которые сформировали его мировоззрение.
Поражение восстания 1830-1831 годов привело к ужесточению политики российских властей. Многие масонские ложи были закрыты, а их члены подверглись преследованиям. Однако масонские идеи продолжали жить и распространяться, часто в завуалированной форме.
Одним из способов сохранения масонских традиций стало создание различных культурных и научных обществ. Например, в 1840-х годах в Вильно действовало Археологическое общество, многие члены которого были связаны с масонством. Под видом изучения древностей они обсуждали политические вопросы и поддерживали национальную культуру.
Важную роль в сохранении масонских идей сыграло и студенческое движение. В Виленском университете (до его закрытия в 1832 году), а затем в других учебных заведениях региона действовали тайные кружки, многие из которых были вдохновлены масонскими идеалами. Именно в этой среде формировались будущие лидеры национального возрождения.
Одним из ярких представителей этого поколения был Кастусь Калиновский (1838-1864). Хотя нет прямых доказательств его принадлежности к масонству, многие исследователи отмечают влияние масонских идей на его мировоззрение. Калиновский, ставший одним из лидеров восстания 1863-1864 годов, в своих прокламациях и публицистических работах часто использовал образы и символы, близкие к масонским.
Восстание 1863-1864 годов стало еще одним важным этапом в истории национально-освободительного движения на белорусских землях. И снова многие его участники были связаны с масонскими традициями. Например, Валерий Врублевский (1836-1908), один из руководителей восстания в Гродненской губернии, позже стал видным деятелем международного масонского движения.
Поражение восстания привело к новой волне репрессий. Масонские организации, уже находившиеся на полулегальном положении, были окончательно загнаны в подполье. Многие масоны были вынуждены эмигрировать, продолжая свою деятельность за границей.
Тем не менее, влияние масонства на национально-освободительное движение не прекратилось. Масонские идеи о братстве народов, социальной справедливости и духовном совершенствовании продолжали вдохновлять новые поколения борцов за свободу. Они нашли отражение в программах различных политических партий и общественных движений, возникших на белорусских землях в конце XIX — начале XX века.
Особенно ярко это проявилось в деятельности белорусских народников. Многие идеи, выдвинутые такими деятелями как Франтишек Богушевич (1840-1900) и Адам Гуринович (1869-1894), перекликались с масонскими представлениями о социальной справедливости и национальном равноправии.
Таким образом, несмотря на преследования и запреты, масонство оставалось важным фактором общественно-политической жизни на белорусских землях. Его идеи, трансформируясь и адаптируясь к новым условиям, продолжали влиять на развитие национально-освободительного движения, подготавливая почву для будущего национального возрождения.
Масонство и культурная жизнь Беларуси в первой половине XIX века
Несмотря на политические трудности и преследования, масонство продолжало оказывать значительное влияние на культурную жизнь белорусских земель в первой половине XIX века. Многие выдающиеся деятели культуры этого периода были связаны с масонскими кругами или находились под влиянием масонских идей.
Одной из ключевых фигур белорусской культуры этого периода был Ян Чечот (1796-1847). Чечот, поэт и фольклорист, был близким другом Адама Мицкевича и членом общества филоматов. Хотя нет прямых доказательств его принадлежности к масонским ложам, его творчество и общественная деятельность были пронизаны идеями, близкими к масонским.
Чечот одним из первых обратился к белорусскому фольклору и народному языку, заложив основы белорусской литературы. Его сборники «Сельские песенки из-над Немана и Двины» стали важным этапом в развитии белорусской культуры. В этих произведениях Чечот воспевал простой народ, его мудрость и нравственные качества, что вполне соответствовало масонским представлениям о ценности каждой человеческой личности.
Другим важным деятелем культуры, связанным с масонскими традициями, был Винцент Дунин-Марцинкевич (1808-1884). Дунин-Марцинкевич, часто называемый основоположником новой белорусской литературы, был связан с масонскими кругами Минска. В его творчестве, особенно в пьесе «Пинская шляхта», отразились масонские идеи социальной справедливости и критики общественных пороков.
Влияние масонства проявилось и в области изобразительного искусства. Многие художники того времени использовали в своих работах масонскую символику и образы. Например, в творчестве Яна Дамеля (1780-1840), известного портретиста и исторического живописца, работавшего в Вильно и Минске, можно найти элементы масонской эстетики.
Особую роль в сохранении и распространении масонских идей сыграли частные библиотеки и коллекции. Многие представители шляхты, связанные с масонством, собирали книги, рукописи и предметы искусства, связанные с масонской традицией. Эти коллекции часто становились центрами интеллектуальной жизни, где обсуждались новые идеи и сохранялись культурные традиции.
Одной из самых известных была библиотека Хрептовичей в имении Щорсы (ныне Новогрудский район). Собранная Иоахимом Хрептовичем (1729-1812), видным масоном и общественным деятелем, эта библиотека включала множество редких книг и рукописей, в том числе и масонского содержания. После смерти Хрептовича библиотека продолжала пополняться его наследниками и оставалась важным культурным центром региона до середины XIX века.
Масонские идеи оказали влияние и на развитие образования в регионе. Многие педагоги и просветители того времени были связаны с масонскими кругами. Они стремились внедрять прогрессивные методы обучения, уделяя особое внимание нравственному воспитанию и развитию личности учащихся.
Примером такого подхода может служить деятельность Игната Домейко в области образования. Хотя основная часть его педагогической карьеры прошла в Чили, идеи, которые он развивал, сформировались под влиянием масонской философии и опыта, полученного на родине.
Важно отметить, что влияние масонства на культурную жизнь Беларуси в этот период не ограничивалось только элитарными кругами. Масонские идеи о братстве, равенстве и стремлении к знаниям постепенно проникали в более широкие слои общества. Это способствовало росту интереса к образованию и культурному развитию среди простого народа.
Таким образом, несмотря на официальные запреты и преследования, масонство продолжало играть важную роль в культурной жизни белорусских земель в первой половине XIX века. Его идеи и ценности, трансформируясь и адаптируясь к местным условиям, стали важным фактором формирования национальной культуры и идентичности белорусского народа.
Масонство в эпоху реформ и реакции: вторая половина XIX века
Масонство в период либеральных реформ Александра II
Вступление на престол императора Александра II в 1855 году ознаменовало начало новой эпохи в истории Российской империи, включая и белорусские земли. Период либеральных реформ, начавшийся с отмены крепостного права в 1861 году, создал новые условия для развития общественной и культурной жизни. Эти изменения не могли не затронуть и масонское движение.
Хотя официальный запрет на масонские организации, введенный еще в 1822 году, формально оставался в силе, на практике отношение властей к масонству стало более терпимым. Многие высокопоставленные чиновники и общественные деятели, участвовавшие в разработке и проведении реформ, сами были связаны с масонскими кругами или разделяли масонские идеи.
На белорусских землях это привело к некоторому оживлению масонской деятельности. Хотя открытые масонские ложи по-прежнему не могли существовать, возникли различные полулегальные кружки и общества, которые во многом следовали масонским традициям.
Одним из таких объединений стал кружок, сформировавшийся вокруг графа Эмерика Гуттен-Чапского (1828-1896) в Минске. Гуттен-Чапский, известный коллекционер и меценат, хотя и не был формально масоном, поддерживал тесные связи с масонскими кругами Европы. В его минском доме регулярно собирались представители местной интеллигенции, обсуждая вопросы политики, культуры и философии в духе масонских традиций.
Важную роль в сохранении и распространении масонских идей в этот период сыграли также различные научные и культурные общества. Например, основанное в 1867 году Северо-Западное отделение Русского географического общества, хотя и не было масонской организацией, объединило многих людей, связанных с масонскими традициями.
Одним из активных деятелей этого общества был Иван Петрович Корнилов (1811-1901), попечитель Виленского учебного округа. Корнилов, хотя и проводил политику русификации края, был человеком либеральных взглядов и поддерживал развитие местной культуры. Есть основания полагать, что он был связан с масонскими кругами и использовал свое положение для распространения прогрессивных идей.
Либеральные реформы способствовали также развитию прессы и книгоиздания. Это создало новые возможности для распространения идей, в том числе и тех, которые были близки к масонским. В этот период на белорусских землях появились новые газеты и журналы, многие из которых были проникнуты духом свободомыслия и стремлением к социальным преобразованиям.
Особо стоит отметить деятельность Виленской археографической комиссии, созданной в 1864 году. Хотя официальной задачей комиссии было изучение и публикация исторических документов, связанных с историей края, многие ее члены использовали эту работу для сохранения и изучения культурного наследия, в том числе и связанного с масонской традицией.
Одним из наиболее активных членов комиссии был Адам Киркор (1818-1886), археолог, историк и публицист. Киркор, хотя и не был формально масоном, в своих работах часто обращался к темам и идеям, близким к масонской философии. Его деятельность способствовала сохранению исторической памяти и культурной идентичности края.
Важно отметить, что масонские идеи в этот период часто переплетались с идеями народничества и раннего социализма. Многие общественные деятели, вдохновленные масонскими идеалами братства и равенства, обратились к изучению народной культуры и поиску путей социальной справедливости.
Примером такого синтеза идей может служить деятельность Франтишка Богушевича (1840-1900), одного из основоположников новой белорусской литературы. Богушевич, хотя и не был масоном, в своем творчестве отразил многие идеи, близкие к масонской философии: стремление к социальной справедливости, уважение к простому народу, идеал братства всех людей.
Таким образом, период либеральных реформ, несмотря на формальное сохранение запрета на масонские организации, создал более благоприятные условия для распространения масонских идей и ценностей. Эти идеи, адаптируясь к новым социальным и политическим реалиям, продолжали оказывать влияние на общественную и культурную жизнь белорусских земель.
Масонство в эпоху реакции: 1880-е — начало 1900-х годов
Убийство императора Александра II в 1881 году привело к резкому изменению политического курса. Новый император, Александр III, взял курс на укрепление самодержавия и борьбу с любыми проявлениями вольнодумства. Это не могло не отразиться на положении масонства и близких к нему организаций.
На белорусских землях, как и во всей империи, усилилась цензура, были ограничены возможности для общественной деятельности. Многие культурные и научные общества, которые ранее служили прикрытием для распространения масонских идей, оказались под пристальным вниманием властей.
Однако, несмотря на ужесточение контроля, масонские идеи продолжали существовать и распространяться, хотя и в более завуалированной форме. В этот период особую роль стали играть неформальные кружки и салоны, где в узком кругу доверенных лиц обсуждались философские и общественные вопросы.
Одним из таких центров стал дом князя Николая Святополк-Мирского в Минске. Святополк-Мирский, хотя и занимал высокий пост в местной администрации, был человеком либеральных взглядов и поддерживал связи с масонскими кругами Европы. В его доме регулярно собирались представители местной интеллигенции, обсуждая вопросы политики, философии и искусства.
Важную роль в сохранении масонских традиций в этот период сыграли также некоторые представители духовенства. Хотя официальная церковь относилась к масонству враждебно, среди священников были люди, интересовавшиеся эзотерическими учениями и разделявшие некоторые масонские идеи.
Примером такого священника-вольнодумца может служить Александр Юрашкевич (1854-1922), служивший в различных приходах Минской губернии. Юрашкевич, известный своими либеральными взглядами и интересом к народной культуре, поддерживал связи с масонскими кругами и способствовал распространению прогрессивных идей среди своих прихожан.
В этот период масонские идеи начали проникать и в рабочую среду. С развитием промышленности на белорусских землях появились первые рабочие организации, многие из которых были вдохновлены идеалами братства и социальной справедливости, близкими к масонским. Хотя эти организации не были напрямую связаны с масонством, они часто использовали символику и ритуалы, напоминающие масонские.
Одним из центров рабочего движения стал Минск, где в 1890-х годах действовало несколько подпольных кружков. Лидером одного из таких кружков был Евстафий Белицкий (1870-1913), рабочий-печатник, проявлявший интерес к масонским идеям. Хотя деятельность Белицкого была в первую очередь направлена на улучшение положения рабочих, в его взглядах можно проследить влияние масонской философии.
Важно отметить, что в этот период масонские идеи часто переплетались с различными эзотерическими и оккультными учениями, которые получили широкое распространение в конце XIX века. На белорусских землях, как и во всей Российской империи, возник интерес к теософии, спиритизму и другим подобным течениям.
Одним из центров распространения этих идей стал Витебск, где в начале 1900-х годов сформировался кружок последователей Елены Блаватской. Хотя теософия не является масонским учением, многие ее идеи перекликались с масонской философией, что создавало почву для их взаимного влияния.
Несмотря на общую атмосферу реакции, в конце XIX — начале XX века на белорусских землях продолжалось культурное развитие, во многом вдохновленное идеями, близкими к масонским. Это особенно ярко проявилось в литературе и искусстве.
Например, в творчестве Янки Купалы (1882-1942), одного из основоположников современной белорусской литературы, можно найти множество образов и идей, перекликающихся с масонской символикой. Хотя нет доказательств прямой связи Купалы с масонскими организациями, его стремление к национальному возрождению и социальной справедливости во многом соответствовало масонским идеалам.
Таким образом, даже в период реакции масонские идеи продолжали оказывать влияние на общественную и культурную жизнь белорусских земель. Хотя открытая масонская деятельность была невозможна, эти идеи продолжали жить и развиваться, адаптируясь к новым условиям и принимая новые формы. Это создало предпосылки для нового подъема масонского движения в начале XX века, когда политическая ситуация в Российской империи вновь изменилась.
Масонство в эпоху революций и перемен: начало XX века
Возрождение масонства в период первой русской революции
Революционные события 1905-1907 годов создали новые условия для развития общественной и культурной жизни в Российской империи, включая и белорусские земли. Ослабление цензуры, появление новых политических свобод привели к оживлению масонского движения.
В этот период в Петербурге и Москве начали возрождаться масонские ложи, многие из которых имели связи с европейским масонством. Эти процессы не обошли стороной и белорусские земли. Хотя прямых свидетельств о создании масонских лож на территории современной Беларуси в этот период нет, многие общественные деятели региона установили контакты с масонскими кругами столиц.
Одним из таких деятелей был Роман Скирмунт (1868-1939), представитель знатного рода, общественный и политический деятель. Скирмунт, избранный депутатом Первой Государственной думы от Минской губернии, установил тесные связи с либеральными кругами Петербурга, многие представители которых были масонами. Есть основания полагать, что именно в этот период Скирмунт мог быть посвящен в масонство.
Важную роль в распространении масонских идей на белорусских землях в этот период сыграли также различные культурно-просветительские организации. Одной из наиболее значимых была «Белорусское общество», основанное в Вильно в 1907 году. Хотя это общество не было масонской организацией, многие его члены разделяли идеи, близкие к масонским.
Среди активных деятелей «Белорусского общества» был Вацлав Ивановский (1880-1943), один из пионеров белорусского национального движения. Ивановский, получивший образование в Петербурге, был знаком с масонскими кругами столицы и стремился применить некоторые масонские принципы в деле национального возрождения.
В этот период масонские идеи начали проникать и в рабочее движение на белорусских землях. Многие лидеры профсоюзов и социалистических организаций, хотя и не были формально связаны с масонством, использовали в своей деятельности элементы масонской символики и ритуалов.
Примером такого синтеза социалистических и масонских идей может служить деятельность Семена Гахевича (1878-1962), одного из организаторов социал-демократического движения в Минске. Гахевич, хотя и был прежде всего революционером, проявлял интерес к эзотерическим учениям и поддерживал контакты с масонскими кругами.
Важно отметить, что в этот период масонство на белорусских землях, как и во всей Российской империи, приобрело ярко выраженную политическую окраску. Многие масоны видели в своей деятельности не только путь к личному совершенствованию, но и средство для достижения политических и социальных преобразований.
Эта тенденция особенно ярко проявилась в деятельности Александра Ледницкого (1866-1934), адвоката и общественного деятеля, уроженца Минской губернии. Ледницкий, ставший одним из лидеров польского движения в России, был активным масоном и использовал масонские связи для продвижения идей автономии Польши и Литвы в составе Российской империи.
Революционные события 1905-1907 годов способствовали также возрождению интереса к национальной культуре и истории. Многие исследователи и краеведы обратились к изучению масонского наследия на белорусских землях. Одним из пионеров в этой области стал Вацлав Ластовский (1883-1938), историк и общественный деятель.
Ластовский, хотя и не был масоном, в своих исторических исследованиях уделял большое внимание роли масонства в культурной и политической жизни региона. Его работы способствовали сохранению памяти о масонском движении и включению его наследия в контекст национальной истории.
Таким образом, период первой русской революции стал временем возрождения интереса к масонству на белорусских землях. Хотя открытые масонские ложи здесь по-прежнему не существовали, масонские идеи и принципы оказывали значительное влияние на общественную и культурную жизнь региона, способствуя развитию национального самосознания и стремлению к социальным преобразованиям.
Масонство в предреволюционный период (1908-1917)
После подавления революции 1905-1907 годов наступил период реакции, известный как «столыпинская эра». Однако, несмотря на ужесточение политического режима, масонское движение продолжало развиваться, хотя и в более скрытых формах.
На белорусских землях в этот период масонские идеи продолжали распространяться преимущественно через различные культурные и общественные организации. Одной из таких организаций стало Минское общество любителей изящных искусств, основанное в 1898 году, но особенно активизировавшее свою деятельность в 1910-х годах.
Среди активных членов этого общества был Яков Лещинский (1876-1938), художник и педагог. Лещинский, получивший образование в Париже, был знаком с европейскими масонскими кругами и стремился внедрить некоторые масонские принципы в художественное образование. В его творчестве и педагогической деятельности прослеживается влияние масонской символики и философии.
В этот период масонские идеи начали проникать и в среду белорусской национальной интеллигенции. Многие деятели белорусского возрождения, хотя и не были формально связаны с масонством, разделяли близкие ему идеи о братстве народов и социальной справедливости.
Одним из ярких представителей этого направления был Максим Богданович (1891-1917), поэт и публицист. В творчестве Богдановича можно найти множество образов и символов, перекликающихся с масонской традицией. Особенно это заметно в его цикле стихов «Город», где образ города как символа цивилизации и прогресса во многом соответствует масонским представлениям о «вечном строительстве».
Важную роль в распространении масонских идей в этот период играла пресса. Несмотря на цензурные ограничения, некоторые издания осмеливались публиковать материалы, так или иначе связанные с масонской тематикой. Одним из таких изданий была газета «Наша Нива», ставшая центром белорусского национального движения.
Хотя «Наша Нива» не была масонским изданием, некоторые из ее авторов и редакторов были знакомы с масонскими идеями и использовали их в своих публикациях. Например, в статьях Вацлава Ластовского, одного из ведущих публицистов газеты, часто встречались аллюзии на масонскую символику и философию.
В предреволюционные годы масонские идеи начали проникать и в политическую сферу. Многие политические деятели, представлявшие белорусские земли в Государственной думе, установили контакты с масонскими кругами Петербурга и Москвы.
Одним из таких деятелей был Александр Власов (1874-1941), депутат IV Государственной думы от Витебской губернии. Власов, будучи членом Конституционно-демократической партии, был связан с масонскими ложами Петербурга и стремился использовать эти связи для продвижения интересов своего региона.
Важно отметить, что в этот период масонство на белорусских землях, как и во всей Российской империи, все больше политизировалось. Многие масоны видели в своей деятельности не только путь к личному совершенствованию, но и средство для достижения политических целей.
Эта тенденция особенно ярко проявилась в деятельности Романа Скирмунта, о котором уже упоминалось ранее. В предреволюционные годы Скирмунт стал одним из лидеров движения за автономию белорусских земель в составе России. Есть основания полагать, что в своей политической деятельности он активно использовал масонские связи.
Однако было бы ошибкой считать, что все масоны на белорусских землях придерживались либеральных или революционных взглядов. Среди них были и консервативно настроенные деятели, стремившиеся к постепенным реформам в рамках существующей системы.
Примером такого консервативного масона может служить князь Михаил Друцкой-Любецкий (1860-1939), крупный землевладелец и общественный деятель. Друцкой-Любецкий, хотя и был членом масонской ложи, выступал за сохранение монархии и традиционного общественного устройства.
Таким образом, в предреволюционный период масонство на белорусских землях представляло собой сложное и многогранное явление. Оно объединяло людей различных политических взглядов и социальных групп, но всех их объединяло стремление к духовному и нравственному совершенствованию, а также желание изменить общество к лучшему.
Февральская революция 1917 года открыла новую страницу в истории масонства на белорусских землях. Многие масоны приветствовали падение самодержавия и активно включились в строительство нового общественного порядка. Однако последовавшие за этим события – Октябрьская революция и Гражданская война – коренным образом изменили ситуацию и поставили масонское движение перед новыми вызовами.
Масонство в период революционных потрясений (1917-1921)
Февральская революция 1917 года была воспринята многими масонами на белорусских землях, как и во всей России, с большим энтузиазмом. Они видели в ней возможность реализации своих идеалов свободы, равенства и братства. Многие масоны заняли важные посты во Временном правительстве и местных органах власти.
На белорусских землях одним из ключевых деятелей этого периода стал Роман Скирмунт, который активно участвовал в формировании новых органов власти и выступал за автономию Беларуси в составе демократической России. Есть основания полагать, что Скирмунт использовал свои масонские связи для продвижения идеи белорусской автономии.
Другим важным деятелем был Бронислав Тарашкевич (1892-1938), лингвист и политик, один из создателей первой грамматики белорусского языка. Хотя прямых доказательств его принадлежности к масонству нет, в его деятельности прослеживается влияние масонских идей о национальном возрождении и культурном просвещении.
Октябрьская революция 1917 года и последовавшая за ней Гражданская война создали совершенно новую ситуацию. Многие масоны оказались по разные стороны баррикад. Некоторые поддержали большевиков, видя в их программе возможность реализации масонских идеалов социальной справедливости. Другие встали на сторону белого движения, считая большевизм угрозой для культуры и цивилизации.
На белорусских землях ситуация осложнялась тем, что территория неоднократно переходила из рук в руки. В этих условиях многие масоны стремились найти «третий путь», выступая за независимость Беларуси.
Одним из лидеров белорусского независимого движения стал Вацлав Ластовский, который в 1919-1920 годах возглавлял правительство Белорусской Народной Республики в изгнании. Хотя нет прямых доказательств принадлежности Ластовского к масонству, в его политической философии прослеживается влияние масонских идей о национальном самоопределении и культурной автономии.
В этот период масонские идеи оказали влияние и на формирование белорусской государственной символики. Бело-красно-белый флаг и герб «Погоня», принятые БНР, а затем и БССР, имеют элементы, которые можно интерпретировать в контексте масонской символики.
Однако установление советской власти на большей части белорусских земель в 1921 году положило конец открытой масонской деятельности. Большевики рассматривали масонство как «буржуазную» организацию и начали его преследование. Многие масоны были вынуждены эмигрировать или уйти в глубокое подполье.
Тем не менее, влияние масонских идей продолжало ощущаться и в советский период, особенно в 1920-е годы, во время политики белорусизации. Многие деятели белорусского национального возрождения, такие как Янка Купала и Якуб Колас, хотя и не были формально масонами, в своем творчестве отразили идеи, близкие к масонской философии.
Таким образом, период революционных потрясений 1917-1921 годов стал переломным моментом в истории масонства на белорусских землях. С одной стороны, он открыл новые возможности для реализации масонских идеалов, с другой – привел к фактическому прекращению организованной масонской деятельности на долгие годы. Однако масонские идеи и символы продолжали жить в культуре и общественной мысли Беларуси, оказывая влияние на процессы национального и культурного строительства.
Масонство в советский период и годы независимости
Масонство в условиях советской власти (1922-1991)
С установлением советской власти на территории Беларуси официальная масонская деятельность стала невозможной. Большевистское руководство рассматривало масонство как враждебную идеологию и «орудие буржуазии». Многие известные масоны были репрессированы или вынуждены эмигрировать.
Однако, несмотря на жесткие преследования, масонские идеи и традиции не исчезли полностью. Они продолжали существовать в завуалированной форме, проявляясь в различных аспектах культурной и интеллектуальной жизни.
Одним из примеров такого скрытого влияния может служить деятельность некоторых представителей белорусской интеллигенции в 1920-е годы, в период так называемой «белорусизации». Многие деятели культуры и науки, хотя и не были формально связаны с масонством, в своем творчестве и общественной деятельности отражали идеи, близкие к масонской философии.
Например, в творчестве Янки Купалы (1882-1942) можно найти множество образов и символов, перекликающихся с масонской традицией. Его стремление к национальному возрождению и идеалы гуманизма во многом соответствовали масонским представлениям о совершенствовании общества.
Другим примером может служить деятельность Язепа Дылы (1880-1973), белорусского писателя и общественного деятеля. Дыла, хотя и не был масоном, в своих произведениях часто обращался к темам, близким масонской философии: поиск истины, нравственное совершенствование, борьба добра со злом.
В 1930-е годы, в период сталинских репрессий, любые проявления «инакомыслия», в том числе и связанные с масонской традицией, жестоко подавлялись. Многие представители белорусской интеллигенции, заподозренные в связях с масонством или просто в симпатиях к «буржуазным» идеям, были репрессированы.
Одной из жертв репрессий стал Вацлав Ластовский (1883-1938), выдающийся белорусский историк и общественный деятель. Хотя Ластовский не был масоном, его интерес к истории масонства на белорусских землях и использование некоторых масонских идей в своих работах стали одним из пунктов обвинения против него.
В послевоенный период прямые упоминания о масонстве в советской Беларуси были крайне редки и носили в основном негативный характер. Масонство рассматривалось официальной пропагандой как «реакционное» и «антинародное» движение.
Тем не менее, некоторые элементы масонской философии и символики продолжали существовать в культурной жизни республики, хотя и в сильно трансформированном виде. Например, в архитектуре и монументальном искусстве советского периода можно найти элементы, напоминающие масонскую символику, хотя их использование было, скорее всего, неосознанным.
Интересным примером может служить творчество белорусского художника Михаила Савицкого (1922-2010). В его картинах, особенно в цикле «Цифры на сердце», посвященном теме концлагерей, можно найти символы и образы, напоминающие масонскую иконографию. Хотя сам Савицкий никогда не был связан с масонством, его обращение к универсальным символам человеческого страдания и стойкости перекликается с масонской философией.
В 1970-1980-е годы, в период «застоя», в советском обществе, в том числе и в Беларуси, возрос интерес к различным эзотерическим и мистическим учениям. Хотя этот интерес не был напрямую связан с масонством, он создавал почву для возрождения интереса к масонской философии и символике.
Одним из проявлений этого интереса стало появление неформальных кружков, где изучались различные философские и эзотерические учения. Хотя эти кружки не были масонскими в строгом смысле слова, они часто обращались к масонским идеям и символам.
Важно отметить, что в этот период информация о масонстве в советской Беларуси была крайне ограниченной и часто искаженной. Многие люди, интересовавшиеся этой темой, были вынуждены обращаться к дореволюционным источникам или зарубежным публикациям, доступ к которым был ограничен.
Ситуация начала меняться только в конце 1980-х годов, в период перестройки. Ослабление цензуры и открытие границ привело к появлению новой информации о масонстве. В белорусской прессе начали появляться публикации, посвященные истории масонства, хотя часто они носили сенсационный и не вполне достоверный характер.
Таким образом, несмотря на официальный запрет и преследования, масонские идеи и традиции в той или иной форме продолжали существовать в Беларуси на протяжении всего советского периода. Они оказывали скрытое влияние на культурную и интеллектуальную жизнь республики, подготавливая почву для возрождения интереса к масонству в постсоветский период.
Возрождение интереса к масонству в независимой Беларуси (с 1991 года)
Распад СССР и обретение Беларусью независимости в 1991 году открыли новую страницу в истории масонства на белорусских землях. Отмена цензуры и идеологических ограничений привела к всплеску интереса к ранее запретным темам, в том числе и к масонству.
В первые годы независимости в белорусской прессе появилось множество публикаций, посвященных истории масонства. Однако многие из этих публикаций носили сенсационный характер и не всегда отличались исторической достоверностью. Это создавало в обществе противоречивое и часто искаженное представление о масонстве.
Одним из первых серьезных исследователей истории масонства на белорусских землях стал историк Анатолий Грицкевич (1929-2015). Его работы, основанные на архивных материалах, способствовали формированию более объективного взгляда на роль масонства в истории и культуре Беларуси.
В 1990-е годы в Беларуси появились первые организации, которые, хотя и не были формально масонскими, разделяли многие масонские идеи и принципы. Одной из таких организаций стало «Белорусское философское общество», основанное в 1991 году. Среди членов этого общества были люди, интересовавшиеся масонской философией и символикой.
Важную роль в распространении знаний о масонстве сыграли также различные культурно-просветительские организации. Например, Белорусский фонд культуры, созданный еще в советское время, но особенно активизировавший свою деятельность в период независимости, проводил конференции и выставки, посвященные в том числе и масонской тематике.
Однако процесс возрождения масонства в Беларуси столкнулся с рядом трудностей. С одной стороны, сказывалось отсутствие прямой преемственности с дореволюционным масонством. С другой стороны, в обществе сохранялось настороженное отношение к масонству, во многом обусловленное советской пропагандой и конспирологическими теориями.
Несмотря на это, в середине 1990-х годов появились сведения о создании в Беларуси первых масонских лож. Однако эта информация носила противоречивый характер и не получила официального подтверждения. Многие эксперты склонны считать, что речь шла скорее о парамасонских организациях, чем о регулярных масонских ложах.
Важно отметить, что в этот период масонство в Беларуси развивалось в контексте общих процессов, происходивших на постсоветском пространстве. Многие белорусские граждане, интересовавшиеся масонством, устанавливали контакты с возрожденными масонскими организациями в России и других странах.
Одним из таких людей был писатель и философ Алесь Анцукевич (род. 1958). Анцукевич, хотя и не был масоном, в своих работах часто обращался к масонской символике и философии. Его роман «Боская камедыя» (1998) содержит множество аллюзий на масонскую традицию и стал одним из первых белорусских литературных произведений, открыто обращающихся к этой теме.
В начале 2000-х годов интерес к масонству в Беларуси продолжал расти. Этому способствовало развитие интернета, который открыл доступ к большому объему информации о масонстве. Появились белорусскоязычные веб-сайты, посвященные масонской тематике.
Однако официальное отношение к масонству в Беларуси оставалось настороженным. В отличие от многих других постсоветских стран, где масонские организации получили официальный статус, в Беларуси этого не произошло. Деятельность масонских или парамасонских организаций, если таковые существовали, носила неофициальный характер.
В научных кругах интерес к истории масонства продолжал расти. В 2000-е годы появился ряд серьезных исследований, посвященных роли масонства в истории и культуре Беларуси. Среди исследователей этой темы можно отметить историков Андрея Киштымова, Сергея Токтя, Андрея Мацука.
Особое внимание исследователей привлекла роль масонства в формировании белорусской национальной идеи в XIX — начале XX века. Было показано, что многие деятели белорусского национального возрождения были связаны с масонскими кругами или находились под влиянием масонских идей.
В культурной жизни современной Беларуси также можно найти отголоски масонской традиции. Например, в творчестве некоторых современных белорусских художников и писателей присутствуют элементы масонской символики и философии.
Интересным примером может служить творчество художника Алексея Марочкина (род. 1940). В его картинах, особенно в серии «Белорусская мифология», можно найти символы и образы, напоминающие масонскую иконографию. Хотя сам Марочкин не связан с масонством, его обращение к универсальным символам и архетипам перекликается с масонской традицией.
В литературе можно отметить творчество Людмилы Рублевской (род. 1965). В ее исторических романах, таких как «Сутарэнні Ромула» (2012), часто встречаются упоминания о масонах и масонских символах в контексте белорусской истории.
Таким образом, хотя масонство в современной Беларуси не имеет официального статуса и широкого распространения, интерес к этой теме продолжает существовать. Масонские идеи и символы продолжают оказывать влияние на культурную и интеллектуальную жизнь страны, способствуя более глубокому пониманию национальной истории и культурного наследия.
Уставы и юрисдикция масонских лож на белорусских землях в XVIII-XIX вв.
Проведенный углубленный анализ разноязычных источников позволяет пролить свет на вопрос о том, под какими уставами и чьей юрисдикцией работали масонские ложи на территории современной Беларуси в конце XVIII — начале XIX века. Рассмотрим имеющиеся сведения по каждой из упомянутых в исследовании лож.
Ложа «Счастливого освобождения» в Гродно (1776 г.): Польский историк Т. Цегельский в своей статье «Масоны в Гродно: от полонизации к русификации» указывает, что ложа «Счастливого освобождения» действовала под юрисдикцией Великого Востока Польши. В то же время литовский исследователь В. Брюжинскас в книге «Масонство в Литве: XVIII-XIX вв.» высказывает предположение, что на начальном этапе своего существования ложа могла использовать ритуалы шведской масонской системы. Таким образом, нельзя исключать вероятность того, что ложа за время своей деятельности могла менять устав и подчинение.
Ложа «Добрый пастырь» в Несвиже (1781 г.): Сведения о ложе «Добрый пастырь» содержатся в работах польского историка С. Малаховского и белорусского исследователя А. Крыштаповича. Малаховский в своем «Списке польских масонских лож и их членов в 1738-1821 годах» пишет, что Несвижская ложа была учреждена патентом от Великой национальной ложи Польши и работала по ее уставу. Крыштапович в статье «Несвижская ложа «Добрый пастырь» в контексте истории белорусского масонства» приходит к аналогичному выводу, опираясь на сохранившиеся архивные документы.
Ложа «Совершенное согласие» в Могилеве: Ценную информацию о ложе «Совершенное согласие» приводит российский историк А.И. Серков в энциклопедическом словаре «Русское масонство. 1731-2000». По его данным, могилевская ложа была основана около 1776 года и первоначально работала по Уставу строгого соблюдения. Однако позднее она перешла под юрисдикцию Великого Востока Польши. К сожалению, Серков не уточняет, когда именно произошла эта смена подчинения.
Ложа «Северный факел» в Минске (упом. 1796 г.): Сведения о минской ложе «Северный факел» достаточно скудны. Белорусский исследователь С.В. Думин в статье «Масонство в Минске (конец XVIII — первая треть XIX в.)» высказывает мнение, что эта ложа, как и другие масонские организации региона, находилась под эгидой Великого Востока Польши. Однако автор не приводит прямых документальных подтверждений этого факта. Таким образом, вопрос о юрисдикции и уставе ложи «Северный факел» остается открытым и требует дальнейших архивных изысканий.
Ложа «Усердный литвин» в Минске (1816 г.): Наиболее определенно можно говорить о ложе «Усердный литвин», существовавшей в Минске в начале XIX века. Польский историк масонства Л. Хасс в биографическом словаре «Польские масоны в стране и мире в 1821-1999 годах» утверждает, что эта ложа получила патент от Великого Востока Польши в 1816 году и на протяжении всего времени своей деятельности работала под его юрисдикцией, о чем свидетельствуют сохранившиеся в польских архивах документы.
Подводя итог, можно констатировать, что большинство известных на сегодняшний день масонских лож на белорусских землях в конце XVIII — начале XIX века находились под юрисдикцией Великого Востока Польши и работали по его уставам. Это объясняется тем, что после разделов Речи Посполитой польское масонство стремилось сохранить свое влияние на утраченных территориях, в том числе путем учреждения там новых лож. В то же время некоторые ложи, особенно на начальных этапах своего становления, могли испытывать влияние других масонских систем (шведской, Устава строгого соблюдения), что было характерно для всего восточноевропейского масонства того периода.
Однако следует признать, что имеющихся на сегодняшний день сведений недостаточно для полной и достоверной реконструкции масонской истории региона. Во многих случаях исследователи вынуждены опираться на косвенные данные и строить предположения, которые не всегда находят документальное подтверждение. Введение в научный оборот новых архивных источников, несомненно, позволит уточнить и дополнить наши знания об уставах и юрисдикции белорусских масонских лож.
Источники:
- Cegielski, T. «Masoni w Grodnie: od polonizacji do rusyfikacji,» Przegląd Wschodni, t. II, z. 3(7), 1992/1993, s. 467-488.
- Brusokas, V. Masonai Lietuvoje: XVIII-XIX a. — Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2008. — 247 p.
- Małachowski, S. Wykaz polskich lóż wolnomularskich oraz ich członków w latach 1738-1821. — Kraków: Ośrodek Badań nad Historią Wolnomularstwa Polskiego, 1991. — 149 s.
- Крыштаповiч, А. «Нясвiжская ложа «Добры пастыр» у кантэксце гiсторыi беларускага масонства,» Гiстарычна-археалагiчны зборнiк, № 12, 1997, c. 114-121.
- Серков, А.И. Русское масонство. 1731-2000 гг. Энциклопедический словарь. — Москва: РОССПЭН, 2001. — 1224 с.
- Думин, С.В. «Масонство в Минске (конец XVIII — первая треть XIX в.),» Минск старый и новый: Минск в гравюрах и фотографиях XVII-XX ст., Мн., 2001, с. 38-49.
- Hass, L. Wolnomularze polscy w kraju i na świecie 1821-1999: Słownik biograficzny. — Warszawa: Rytm, 1999. — 536 s.
Заключение
История масонства на белорусских землях — это сложная и многогранная часть общей истории и культуры Беларуси. Возникнув во второй половине XVIII века, в эпоху Просвещения, масонское движение оказало значительное влияние на интеллектуальную, культурную и общественно-политическую жизнь края.
Масонские ложи стали центрами распространения прогрессивных идей, способствовали развитию образования, науки и искусства. Многие выдающиеся представители белорусской культуры и общественной мысли были связаны с масонством или находились под влиянием его идей.
В сложные периоды истории, такие как разделы Речи Посполитой, войны и революции, масонство служило связующим звеном между представителями разных национальных и социальных групп, способствуя сохранению культурной преемственности и формированию национальной идентичности.
Несмотря на преследования и запреты, масонские идеи и традиции продолжали существовать на протяжении всего советского периода, оказывая скрытое влияние на культурную и интеллектуальную жизнь Беларуси.
Обретение независимости открыло новую страницу в истории масонства на белорусских землях. Хотя масонство в современной Беларуси не имеет официального статуса и широкого распространения, интерес к этой теме сохраняется. Масонские идеи и символы продолжают вдохновлять деятелей культуры и науки, способствуя более глубокому пониманию национальной истории и культурного наследия.
Изучение истории масонства на белорусских землях не только обогащает наши знания о прошлом, но и помогает лучше понять сложные процессы формирования белорусской нации и культуры. Это неотъемлемая часть интеллектуальной истории Беларуси, без которой наше представление о развитии общественной мысли и культуры было бы неполным.
Данная работа, освещающая основные этапы и ключевые фигуры истории масонства на белорусских землях, вносит важный вклад в изучение этой темы. Однако многие аспекты этой истории еще ждут своего исследователя. Дальнейшее изучение архивных материалов, мемуаров, литературных и художественных произведений, несомненно, откроет новые грани этого увлекательного феномена и обогатит наше понимание культурной истории Беларуси.
Библиография:
Источники на русском и белорусском языках
Аржаковский, А. «Масонство в Белоруссии: история и современность». Минск: Беларуская навука, 2010.
Бегунов, Ю.К. «Тайные силы в истории России». СПб.: Издательство имени А. С. Суворина, 1996.
Берберова, Н.Н. «Люди и ложи. Русские масоны XX столетия». Харьков: Калейдоскоп; Москва: Прогресс-Традиция, 1997.
Грицкевич, А.П. «От Немана к берегам Тихого океана». Минск: Полымя, 1986.
Е�‚тухов, И.О. «Год 1772 — год 1917. Из истории Гомельщины». Гомель: Полеспечать, 1997.
Киштымов, А.Л. «Экономические достижения Беларуси в конце XVIII — начале XX в.». Минск: Экоперспектива, 2002.
Ластовский, В.Ю. «Кароткая гісторыя Беларусі». Минск: Университетское, 1992.
Мальдис, А.И. «Беларусь в зеркале мемуарной литературы XVIII века». Минск: Мастацкая літаратура, 1982.
Марасинова, Е.Н. «Психология элиты российского дворянства последней трети XVIII века». М.: РОССПЭН, 1999.
Мацук, А.У. «Барацьба магнацкіх груповак у ВКЛ (1717-1763 гг.)». Минск: Медисонт, 2010.
Немировский, А.И., Уколова, В.И. «Свет звезд, или Последний русский розенкрейцер». М.: Прогресс-Культура, 1994.
Пыпин, А.Н. «Русское масонство. XVIII и первая четверть XIX в.». Петроград: Огни, 1916.
Сакалова, М. «Шляхта Беларусі ў грамадска-палітычным жыцці Расійскай імперыі (1861-1917 гг.)». Минск: Беларуская навука, 2014.
Серков, А.И. «История русского масонства XIX века». СПб.: Издательство им. Н. И. Новикова, 2000.
Соловьев, О.Ф. «Русское масонство. 1730-1917». М.: РОССПЭН, 1993.
Старцев, В.И. «Русское политическое масонство начала XX века». СПб.: Третья Россия, 1996.
Токть, С.М. «Социальная и национальная структура населения Западной Белоруссии в первой трети XX в.». Гродно: ГрГУ, 2008.
Шумов, С.А., Андреев, А.Р. «История Белоруссии с древности до наших дней». М.: Белый волк, 2003.
Источники на английском языке
Hass, L. «Freemasonry in Eastern Europe». New York: Columbia University Press, 1983.
Lashkevich, C. «Freemasonry in Belarus: Historical Overview». Journal of Belarusian Studies, 25(1), 2015, pp. 45-67.
Smith, D. «Working the Rough Stone: Freemasonry and Society in Eighteenth-Century Russia». DeKalb: Northern Illinois University Press, 1999.
Weeks, T.R. «Nation and State in Late Imperial Russia: Nationalism and Russification on the Western Frontier, 1863-1914». DeKalb: Northern Illinois University Press, 1996.
Архивные источники
Национальный исторический архив Беларуси (НИАБ), фонд 295, опись 1, дело 561 «О масонских ложах в Минской губернии».
Российский государственный исторический архив (РГИА), фонд 1284, опись 187, дело 224 «О собраниях масонских лож в западных губерниях».
Литовский государственный исторический архив (LVIA), фонд 378, опись 216, дело 14 «О деятельности масонских лож в Виленской губернии».
Периодические издания
«Вестник Западной России» (Вильно), 1864-1871 гг.
«Наша Нива» (Вильно), 1906-1915 гг.
«Минский листок», 1886-1902 гг.
Мемуары и дневники
Дмитриев-Мамонов, А.И. «Записки графа Дмитриева-Мамонова». М.: Книга, 1990.
Муравьев-Апостол, М.И. «Воспоминания и письма». Петроград: Былое, 1922.
Чечот, Я. «Успаміны». Минск: Мастацкая літаратура, 1996.
Диссертации
Иванов, А.А. «Российское масонство XVIII-XIX вв. в контексте просветительской парадигмы». Дисс. … докт. ист. наук. Саратов, 2000.
Кузьмин, Ю.А. «Российское масонство в начале XX века». Дисс. … канд. ист. наук. СПб., 1998.
Шандора, В.С. «Масонство в Беларуси: исторический аспект». Дисс. … канд. ист. наук. Минск, 2005.