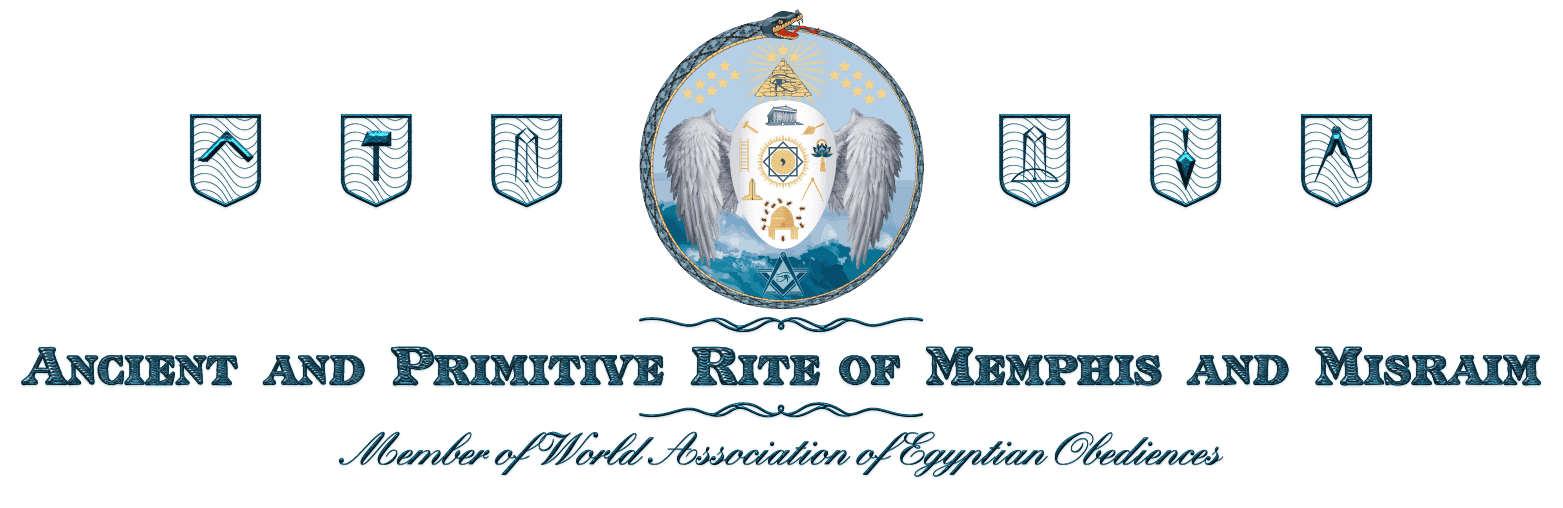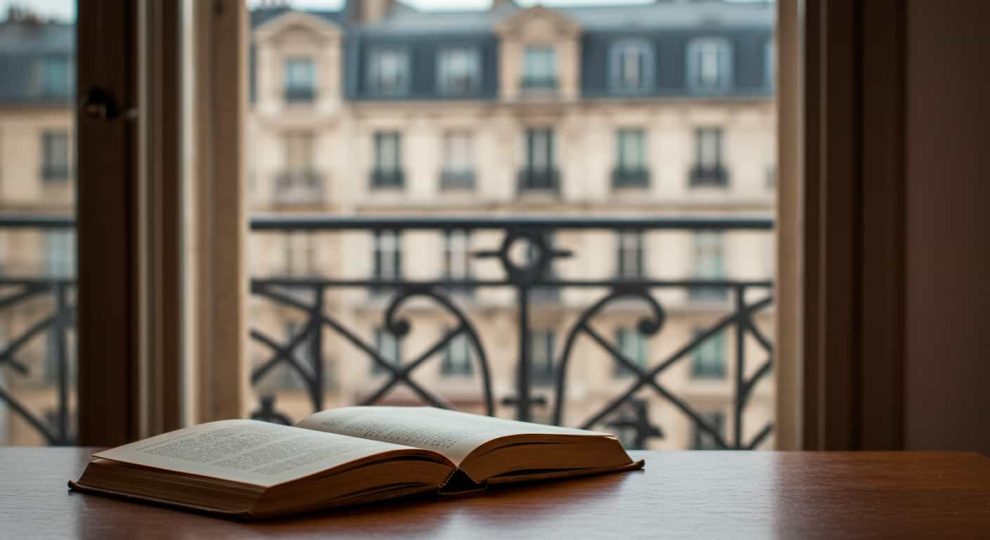В 1937 году в оккупированном эмигрантской тоской Париже увидела свет повесть, которая стала лебединой песней русского писателя Михаила Андреевича Осоргина. «Вольный каменщик» появился в мире в тот момент, когда автор уже понимал, что возвращения на родину не будет, а впереди лежат лишь годы изгнания, завершившиеся смертью в небольшом французском городке Шабри в 1942 году. Эта книга, которую сам Осоргин называл очень ему дорогой, стала не просто художественным произведением, но философским завещанием человека, прошедшего через все испытания своего трагического века и нашедшего утешение в древних символах вольных каменщиков.
Михаил Андреевич Ильин, взявший псевдоним Осоргин по девичьей фамилии бабушки, родился седьмого октября 1878 года в Перми в семье потомственных столбовых дворян, чьи корни уходили в глубь веков к тому же генетическому дереву, что и семейство Аксаковых. Впрочем, исключительная знатность родословной не особенно волновала будущего писателя, который с присущей ему иронией замечал, что всю свою жизнь прожил простым человеком, без всякой особенной биографии, родившись от папы с мамой. Гораздо больше он гордился тем, что вырос на берегах Камы, где навсегда полюбил русские леса, называя себя сыном матери-реки и отца-леса и утверждая, что отречься от них уже никогда не сможет и не хочет.
Литературная судьба Осоргина началась рано и драматично. Первый рассказ «Отец», подписанный псевдонимом М. Пермяк, был напечатан петербургским «Журналом для всех», когда автору едва исполнилось семнадцать лет. Учебу в Московском университете на юридическом факультете юноша сочетал с работой репортером в либеральных изданиях, участвовал в студенческих волнениях и за сотрудничество с эсерами во время первой русской революции попал в тюрьму, едва избежав смертного приговора. Выпущенный под залог, он уехал в Италию, откуда все десять лет добровольной ссылки присылал в «Русские ведомости», «Вестник Европы» и другие издания статьи и обзоры, составившие впоследствии книгу «Очерки современной Италии».
Именно в Италии в 1914 году Осоргин был посвящен в масонство, войдя в ту таинственную организацию, которая станет не просто частью его биографии, но глубинной основой его мировоззрения. Масонство для Осоргина никогда не было лишь данью интеллектуальной моде или способом социального восхождения. Как он признавался Нине Берберовой в двадцатые годы, его, неверующего человека, ужасно влекли всякие ритуалы, потому что каждому человеку они необходимы, давая чувствовать общность, соборность, красоту и иерархию. Братство, любовь к каждому человеку становились для писателя не абстрактными понятиями, а живой реальностью масонского опыта.
Вернувшись полулегально в Россию в 1916 году, Осоргин с головой окунулся в литературную и общественную жизнь революционных лет. Он создал Московский союз писателей, где стал товарищем председателя, и Союз журналистов, избравший его председателем. По его инициативе возникла знаменитая Книжная лавка писателей, ставшая не только способом выживания московских интеллигентов в голодные годы, но и своеобразным духовным центром Москвы. Однако бунтарский характер писателя, его неприятие любого насилия над личностью, будь то царского самодержавия или большевистской диктатуры, привели к неизбежному конфликту с новой властью.
Дважды арестованный, чудом избежавший расстрела, Осоргин в 1922 году был выслан из страны на том самом «философском пароходе», который увез из России цвет ее интеллигенции. Через Берлин писатель попал в Париж, где и провел последние двадцать лет жизни, став одной из ключевых фигур русского зарубежья. Здесь он не только продолжил литературную деятельность, но и активно участвовал в восстановлении русского масонства в эмиграции, занимая ряд офицерских должностей в ложе и став досточтимым мастером — наивысшей офицерской должностью в масонской иерархии. Михаил Андреевич являлся членом Капитула «Северная звезда» Великой коллегии шотландского ритуала, был возведен в восемнадцатый градус пятнадцатого декабря 1931 года.
Появление в 1937 году повести «Вольный каменщик» становится не случайным эпизодом, а закономерным итогом долгих размышлений о смысле человеческого существования, о возможности духовного совершенствования в мире, где торжествуют грубая сила и политическое насилие. Книга была издана в Париже с обложкой художника Федора Сергеевича Рожанковского, и лишь в 1992 году, спустя полвека после смерти автора, она была переиздана в Москве с предисловием Ольги Юрьевны Авдеевой и Андрея Ивановича Серкова, снабженная подготовкой текста Авдеевой и комментариями Серкова.
Сам Осоргин считал эту повесть своей главной и любимой вещью, несмотря на огромный успех романа «Сивцев Вражек», изданного невиданным для эмиграции тиражом в сорок тысяч экземпляров и переведенного на ряд европейских языков. Созданная более полувека назад, она только в девяностые годы возвращается на родину, и несомненно, эта сложная и внутренне значительная книга находит здесь внимательного читателя.
Главный герой произведения — Егор Егорович Тетёхин, бывший почтовый чиновник из Казани, бежавший из родного города вслед за чехословаками, объехавший половину земного шара и оказавшийся в конце концов в Париже. Но история Тетёхина имеет мало общего с составившими целую библиотеку сотнями книг совершенно одинаковых беженских воспоминаний. Сюжетная коллизия повести необычна: русский эмигрант вступает в масонскую ложу. Впрочем, того, кто ищет сенсаций, ждет разочарование — не внешние события, а история души, история нравственных поисков скромного и доброго русского человека интересовала автора.
Тетёхин в дореволюционной Казани был «почти ничто» — незаметный конторский служащий. В революцию это «почти ничто» пускается в путешествие вместе с отступающими чехословаками, обходит с молодой женой и сыном вокруг земного шара и поселяется в Париже, где ведет такую же неприметную обывательскую жизнь. Чисто случайно он попадает на заседание масонской ложи, и это становится началом новой жизни. Тетёхин осознает, что от рождения до совсем недавнего времени спал или дремал, и его разбудил тройной стук молотка — этот обряд начала масонской жизни.
Автор подсмеивается над наивным русским максимализмом новоиспеченного брата-масона, рассказывая, как Егор Егорович буквально понимает требование масонов углублять свои знания и читает все подряд: от биологических изысканий Альфреда Брема до геометрии и философских книг. С легкой иронией описаны и творимые им в мечтах добрые дела вроде спасения кошки, и наивные попытки помочь подлецу-сослуживцу. С юмором рассказывается, как «обмирщает» высокие масонские символы обыкновенный Егор Егорович: библейский строитель Храма Хирам представляется ему молодым человеком заграничного образования, запыленным, усталым, в измятой одежде. Егор Егорович даже в чем-то сопоставляет себя с Хирамом, когда ходит по дачному участку со складным метром.
Автор не боится сказать о своем главном персонаже, что тот «врал соловьем и суетился фокстерьером», провожая тяжелобольного брата-масона на пятый этаж. Но в этой разновидности святого дурака, как назвал Егора Егоровича один из сотрудников его конторы, присутствуют черты князя Мышкина из бессмертного романа Федора Михайловича Достоевского. В наивных речах смешного Тетёхина звучит стремление отесывать себя как камень — камнем масоны называли новичка — строить храм единого человеческого общества. Более того, как всякий русский, Егор Егорович не удовлетворяется ритуалом, формой, его предложения и поступки всегда направлены на конкретную помощь людям.
Именно эти качества позволяют писателю в сцене заседания некоего небесного ареопага, решающего, умереть ли Тетёхину или еще побыть на земле, вложить в уста его неведомого адвоката слова о том, что этот нескладный и добрый чудак духовно выше прославленных героев. Кто сказал, что истина опирается на плечи гигантов и макушки гениальных голов? Неправда! Ее куют срединные люди, пасынки разума, дети чистого сердца. Мы выставляли его смешным и наивным добряком, обращается автор к читателям, просили любить его почти в шутовском наряде. Мы и в дальнейшем не беремся быть к нему справедливее и великодушнее. Но и такой человек способен помышлять о несовершенстве мира. Микрокосм и макрокосм взаимообусловлены, и ущемленная и обиженная маленькая букашка имеет право и на внимание, и на раздумья, и на действия по усовершенствованию мира.
Осоргин проводит своего героя, а вместе с ним и свою излюбленную идею о братстве, любви, соборности через испытания жизнью и логикой. В одном из авторских обращений к читателю он прямо объясняет, что для этого ввел в повесть ряд других персонажей. Слегка потрепанный образ профессора Панкратова, присяжного резонера повести, чем-то напоминающий Астафьева из «Сивцева Вражка», призван логически опровергать тетёхинскую практику «малых дел». Это, поясняет автор читателю, тип рационалиста, в то время как живописная фигура старого масона Эдмонда Жакмена выражает иррациональное в познании. Практическую победу зла в реальном мире символизирует Анри Ришар. И тем не менее именно за алогичным, практически неприспособленным к жизни, добрым Егором Тетёхиным остается истина.
Как бы ни была мала практическая польза основанного им вместе с аптекарем Жан Батистом Руселем и торговцем обоями Себастьяном Дюверже благотворительного фонда, главное здесь в другом: в мире прибавилось трое счастливых людей. Это очень много, когда в одном и том же городе есть три счастливых человека, три ребенка одной матери-ложи, три истинных сына вдовы из колена Неффалимова. Все трое свободно — что очень важно для Осоргина — поделились своим относительным богатством с другими людьми, осознали свое единство.
Пройдя все стадии поисков и разочарований вплоть до проклятий Великому Архитектору Вселенной, к концу повести скромный Егор Егорович уже не в мечтах и снах, а в жизни дал бой злу: поколотил Анри Ришара. Характерно, что именно в этой главке уже без всякой иронии автор ассоциирует Егора с Георгием Победоносцем. Окончательная же его победа заключается в слиянии с природой. Подобно вольтеровскому Кандиду, герой Осоргина возделывает свой сад и восхищается мудростью Природы, единой царицы и повелительницы. Ни перед кем рабы — только перед Нею! И только Ей молитва — страстным шепотом немеющих губ! Побеждать Ее — никогда! Изумленно смотреть, учиться и вечно сливаться с Нею!
Так идея насильственной революции, исповедуемая Осоргиным в молодости, видоизменилась в революцию внутреннюю. Подлинный Храм строится не из дерева, камня и золота, а из человеческих душ, постепенно освобождающихся от духовного рабства и возносящихся на высоты духовного познания.
Серьезный пласт повести составляет художественно-философское осмысление масонства. Для понимания замысла Осоргина необходимо обратиться к сути масонского учения, которое писатель знал не понаслышке. Масонство, или франко-масонство, — движение, появившееся в виде тайного общества, которое берет свое начало из малоизвестных истоков в конце шестнадцатого — начале семнадцатого века. Основной версией происхождения масонства считается версия о происхождении от средневековых строительных гильдий каменщиков, однако существуют теории о более древнем происхождении масонства, начало которого выводится от орденов тамплиеров или ордена розенкрейцеров. Название «масон» или «франкмасон» происходит от французского franc-maçon, употребляется также буквальный перевод этого названия — вольный каменщик.
Этика и философия масонства опираются на монотеистические религии, на древние конституции вольных каменщиков, их регламенты, статуты и уложения. Масонство символически использует инструменты строительных товариществ и легенды о строительстве Храма Соломона, чтобы выражать метафорически то, что и масонами, и их критиками описывается как система морали, скрытая в аллегориях и проиллюстрированная символами.
В повесть введены атрибуты масонской жизни, ритуалов. Земное бытие осоргинских персонажей все время соприкасается с сакральным. Особую роль играет переосмысление библейского предания о Храме царя Соломона и строителе Хираме. Веселый безбожник Осоргин более чем иронично описывает Соломона. Для писателя царь, даже если он легендарный, всегда тиран. Иное дело труженик и моралист Хирам. Не менее свободно использовал Осоргин вавилоно-ассирийский миф о богине Иштар. Все имена мифологических персонажей, кроме Иштар, как и описываемые события, — плод авторского мифотворчества.
Осоргин считал, что масонство вовсе не система нравственных положений, и не метод познания, и не наука о жизни, и даже, собственно, не учение. Идеальное каменщичество есть душевное состояние человека, деятельно стремящегося к истине и знающего, что истина недостижима. Братство вольных каменщиков есть организация людей, искренне верящих в приход более совершенного человечества. Путь к совершенствованию человеческого рода лежит через самоусовершенствование при помощи братского общения с избранными и связанными обещанием такой же над собой работы.
Он выдвигал как основную цель масонов искание истины, проникновение в великие тайны природы, признание тайн бытия, а осуществление этого искательства видел только в братском единении вольных каменщиков. Осоргин считал необходимым условием нравственных поисков отсутствие каких-либо догм, ибо на пути познания не должно быть ничего, стесняющего свободу. Важной для него была мысль о том, что вольные каменщики принимают в свою среду только тех, кто им кажется наиболее подходящим.
«Вольный каменщик» — типично осоргинская книга в том смысле, что автор участвует в повествовании наряду с героями. Он комментирует их мысли и поступки, разговаривает и спорит с ними и с читателем. Обосновывая свое право на такое повествование, Осоргин отвергал обвинения в публицистичности. Срыв беллетриста в публицистику, писал он Марку Вишняку, поистине нетерпим! Но публицистический прием, хотите — трюк, намеренный и нарочный, так же законен, как всякий иной прием, как географическая карта в «Войне и мире», как объявление в тексте. Для беллетриста нет воспрещенного материала, он имеет право писать хоть цифрами и таблицами, лишь бы его логарифмы были поэзией.
Установка на интеллектуальную игру с читателем, идущая от Дидро и Стерна и характерная для литературы двадцатого века, позволяет автору вводить в повествование рассказ о своей творческой лаборатории, подчеркнуто давать конспективное изложение малосущественного материала.
Среди излюбленных поэтических приемов писателя — антитеза. Богатому внутреннему миру своего героя Осоргин противопоставляет обывательское существование его жены, сына Жоржа. В одних случаях это противопоставление передано через поступки персонажей. Так, в главке «Цинциннат» сначала рассказывается о переживании Егором Егоровичем чуда цветения его сада — роза, тюльпан, анютины глазки, — затем об уничтожении этого богатства приехавшими на природу гостями героя, даже не заметившими произведенного ими погрома. В другом случае антитеза проводится чисто языковыми средствами: в главке «Забавы Марианны» чуждый Егору Егоровичу мир его офранцузившейся жены передан обилием варваризмов.
Рисуя своих героев, Осоргин не пользуется потоком сознания, внутренними монологами, но материализует сны, видения, мечты. При этом герои, способные к внутренней жизни, обладают фантазией, соединяют реальность и миф, символику, одухотворяют обычные вещи, а не способные — даже в мечтах предельно приземлены и конкретны.
В отличие от первых сочинений Осоргина роман написан в игриво-замысловатом стиле, с игрой сюжетом, постоянным ироническим вторжением автора, с элементами конструктивизма — смысловая и стилистическая роль масонских символов и терминологии. Просматривается, с одной стороны, влияние советских неореалистов, с другой — нарочитая попытка стилизации под восемнадцатый век.
Метатекстовая структура романа о романе служит у Осоргина не для замещения утраченной реальности текстом о ней, а для сохранения истинного существования с помощью проективной силы искусства. Позднее, во «Временах», это традиционное и классическое для русской литературы представление о творчестве примет вид эстетической формулы: «я пишу не произведение — я пишу жизнь».
Показательна эволюция темы маленького человека в творчестве Михаила Осоргина. В первом романе, посвященном теме интеллигенции и революции, маленькие люди — герои второстепенные, в романной дилогии «Свидетель истории» и «Книга о концах» маленький человек становится одним из двух главных героев и именно он дает оценку происходящим событиям. Повесть «Вольный каменщик» полностью посвящена жизни простых людей. Крах революционных мифов стал очевиден уже в 1917 году, но стремление человека к идеалу неистребимо. В повести «Вольный каменщик» Михаил Осоргин обращается к нравственным поискам масонства. Масонство дает маленькому человеку иллюзию братского единения людей, возвышенной одухотворенной жизни. И пусть вольный каменщик не может реально изменить суровый и жестокий мир, главное в том, что он обретает внутреннюю свободу и достоинство.
Повесть вызвала неоднозначную реакцию современников. Владимир Евгеньевич Жаботинский в рецензии для газеты «Последние новости» отмечал особенности осоргинского дарования: маска сарказма и иронии — это всего лишь прикрытие для расстегнутого сердца и страдающей души писателя. По мнению критика, все то, что у Осоргина упоминается из ритуала и из доктрины вольных каменщиков, напечатано в книжках, которые продаются в любой лавке; и вообще, самое масонство эмигранта Тетёхина — скорее аллегория. Вольный каменщик есть повесть о каждом из нас, кто только умеет взбунтоваться против подвала. Существенна в замысле этой повести только вера в то, что каждому человеку, если он воистину хочет быть человеком, нужно открыть для себя вторую, высшую жизнь.
Жаботинский писал о смысле тетёхинских исканий: он все пытается перенести горнее в уличное, бунтует во имя мистического права против земных уставов конторы и общества, иногда смешно и глупо, иногда трогательно; и наоборот — переносит земные замашки в стратосферу, злится, например, на царя Соломона с такой непосредственностью, как будто они с Егором Тетёхиным в одной конторе служат. И после ряда возвышений и падений — то мистических, то конкретных, автором сплетенных как бы в один узор, — эпопея кончается по любимому осоргинскому рецепту: в царстве той богини всех богинь и Царицы всех цариц, которая выше и святее, чем Иштар и Алату, — в том царстве, где и Гермес Трижды-Величайший и вечный создатель Хирам мокнуть не смеют, а право голоса передается воробьям, травам, мотылькам, и тайный камень истинной медицины отождествляется с компостной кучей, сиречь составным навозом. Взбунтовавшийся обыватель, он же вольный каменщик, будет доживать свои дни на хуторе.
Современные читатели отмечают, что герой симпатичен, чем-то напоминает набоковского Пнина, но неприятно удивляет карикатурный образ царя Соломона — с толстым животом, отвислыми губами, волосатыми ногами, которому отказано даже в мудрости, поскольку Осоргин называет его хитрым. Противопоставлен ему строитель Хирам — красивый, стройный, белокурый, благородный. Некоторые критики усматривают в этом противопоставлении отголоски расовых теорий тридцатых годов, что кажется странным для писателя с безупречной репутацией.
Академические исследования творчества Осоргина начались сравнительно недавно. В 1994 году в Перми прошли Первые осоргинские чтения. В 1995 году Татьяна Марченко защитила диссертацию «Творчество М. Осоргина 1922-1942 годов», где рассмотрела прозу и публицистику писателя с точки зрения эволюции мировоззрения и творческих принципов. Впервые была сделана попытка определить место литературного наследия Михаила Осоргина в литературном процессе Русского Зарубежья. Существует также диссертация «Эволюция нравственного сознания маленького человека в романах М. Осоргина 1920-1930 годов», которая анализирует развитие этой темы в творчестве писателя.
Доктор филологических наук, профессор М. А. Хатямова определяет «Вольного каменщика» как повествование о пути русского интеллигента в эмиграции, создание новой положительной утопии сохранения культурной идентичности. В учебных программах высших учебных заведений повесть рассматривается в контексте анализа композиции, синтеза символики и документализма, методов сопоставления прозы Осоргина с книгами других писателей диаспоры — Марка Алданова, Ивана Шмелева, Бориса Зайцева.
Весьма характерным примером глубокого знания масонства служит произведение Осоргина «Вольный каменщик», в котором Михаил Андреевич обозначил основные направления в работе масонства и масонов. Юмор, присущий автору, пронизывает это произведение от первой до последней страницы. Повесть содержит сто сорок семь страниц и оценена современными читателями на три с половиной балла из пяти. Это одна из тех книг, которые требуют прочтения во второй раз — просто для того, чтобы увидеть, сколько нюансов вы упустили при чтении в первый раз, сколько намеков и подсказок прошли без должного внимания.
Творчество Михаила Осоргина все больше привлекает внимание исследователей. Если критики в первую очередь обращали внимание на содержательную сторону произведений Михаила Осоргина и вступали с ним в идеологические споры, то коллеги-писатели, как правило, наслаждались художественным мастерством произведений. Борис Зайцев назвал роман «Сивцев Вражек» серьезным, талантливым произведением, построенным в духе русского толстовского романа — не фабулистически, не развертыванием, а пряжей из бок о бок идущих тем, фигур, жизненных историй.
Бунтарский характер писателя поставил его в особые отношения с русской эмиграцией. С одной стороны, все признавали, что Осоргин ведет себя как заведомый джентльмен. Он был одним из немногих, кто и в эмиграции сохранял полную независимость: решительно отказывался от всякого рода субсидий и вспомоществований от общественных ли организаций, от частных ли жертвователей. Как и на родине, писатель не был равнодушен к судьбам коллег. Он раздал почти весь нешуточный гонорар за свой нашумевший роман «Сивцев Вражек» нуждающимся писателям с единственным условием, чтобы и они при возможности кому-нибудь помогли. Он основал серию «Новые писатели» и издал в ней под своей редакцией роман Ивана Болдырева (Шкотта) «Мальчики и девочки» и повесть Василия Яновского «Колесо». Он пробивал в различные издания произведения Гайто Газданова, Вадима Андреева, Б. Темирязева (Юрия Анненкова), Владимира Сосинского.
С другой стороны, он был язвителен, ироничен. Не раз печатно высмеивал собратьев за плохое знание русского языка. Но самое главное — он настойчиво подчеркивал, что остается верен революционным идеалам, что Февраль и Октябрь были едины и необходимы: был неизбежен и был нужен полный социальный переворот, и совершиться он мог только в жестоких и кровавых формах. Я это знаю, и я принимаю это фатально, как принимают судьбу. Страдая от новой власти, писал Осоргин в итоговой книге «Времена», мы и в мыслях не имели проклинать революцию, и возврат к прежнему, если бы он был возможен, сочли бы величайшим несчастьем для России.
С этих позиций он осуждал добровольческое Белое движение, считал оскорбительной интервенцию, говорил о своей вере в русский народ. В 1925 году на страницах газеты «День» он вступил в полемику с ее редактором Александром Керенским и заявил, что если бы Временное правительство сохранилось подольше, то оно стало бы столь же враждебным свободе, как и большевистское. Государство, по Осоргину, почти всегда творит насилие над личностью, прикрываясь громкими и красивыми лозунгами. Излишне говорить, что после такого заявления Керенский два года не печатал Осоргина. От анархических и ироничных статей писателя хватался за голову и редактор другой крупной эмигрантской газеты «Последние новости» Павел Милюков, хотя и печатал литературные заметки писателя, весьма популярные у читателей. Если бы М. А. хотел сотрудничать лишь в изданиях, его взгляды разделявших, писал Марк Алданов, то ему писать было бы негде.
Высланный насильно, Осоргин постоянно подчеркивал, что никогда бы не уехал добровольно. До 1937 года он продлевал свой советский паспорт; писал Максиму Горькому, что мечтает издаваться на родине. Вопреки многочисленным эмигрантским критикам, видевшим только в зарубежной ветви продолжение великой русской литературы, Осоргин говорил, по крайней мере до 1935 года, о едином литературном процессе диаспоры и метрополии. Его в равной мере привлекали книги Максима Горького и Ивана Бунина, Владимира Маяковского и Марины Цветаевой, Юрия Олеши и Евгения Замятина, Корнея Чуковского, Леонида Леонова и Алексея Ремизова. Он высоко оценил талант авторов откровенно коммунистических произведений В. Кина «По ту сторону» и Н. Огнева «Дневник Кости Рябова». Искра Божия, писал Осоргин, может оказаться и в председателе комсомольской ячейки.
Он с огромным интересом читал советские газеты, правда, не забывая упрекнуть их в односторонности. Я радуюсь, писал он, когда вижу, что жизнь нашего Союза идет к расцвету, к материальному и духовному богатству. Во всем мире нет другой такой страны, в этом не может быть сомнения… СССР — единственная страна великих возможностей. За подобные высказывания белая эмиграция прозвала его большевизаном, обвиняла в умничанье и оригинальничании ради оригинальности.
Но не жаловала его и советская власть. Ведь еще в 1936 году он писал старому другу в Москве: Над Европой реет знамя так называемого государственного социализма, который в переводе означает тоталитарное государство: власть — все, личность — ничто, народ — стадо, которому нужен пастух и погонщик. Слово социализм — для красоты и для услады слуха дураков. Вы нашли истину, иронизировал писатель, вы ее нашли, записали, выучили наизусть, возвели в догму и воспретили кому-либо в ней сомневаться. Она удобная, тепленькая, годная для мещанского благополучия… Рай с оговорочками, вход по билетам, на воротах икона чудотворца с усами. Тем же словом революция, писал он во «Встречах», стали прикрывать наихудший деспотизм и величайшее насилие над личностью человека. Какой диктатор не использовал этого краденого слова? Какие гражданские цепи не выкованы из понятия свобода? Мы были последним поколением чистых и цельных иллюзий, могиканами наивных верований. И это наша вина: нужно было внимательнее вглядываться в глубь истории.
Пересмотрев многое, он продолжал верить в Россию — она шире, моложе, свежее, сочнее и богаче Европы, утверждать, что революция — это вечный протест, вечная борьба с насилием над личностью, во всякий момент, во всяком строе. Свобода осталась для него высшим смыслом бытия, а клетка символом насилия. Из парижской газеты он вырезал фотографию слона, убившего сторожа зверинца, и хранил ее с любовью. И если бы моего палача, полемически писал Осоргин, посадили под замок, я сорвал бы замок и с его двери.
Именно это чувство свободы заставило его, уже тяжело больного, с риском для жизни переправлять в Америку и нейтральные страны Европы статьи, разоблачающие немецких оккупантов и собранные после смерти писателя его третьей женой Татьяной Алексеевной, урожденной Бакуниной, дальней родственницей известного анархиста, в книгу «Письма о незначительном» (1952). Ею же подготовлены и изданы уже упоминавшиеся воспоминания писателя «Времена» (1955) — лирико-публицистическая биография писателя, описываемые в ней события доведены до 1922 года; книга «В тихом местечке Франции», описывающая жизнь в Шабри, куда Осоргины уехали из оккупированного немцами Парижа. Здесь, в так называемой свободной зоне Франции — слово свобода тесно связано с судьбой Осоргина, — писатель скончался двадцать седьмого ноября 1942 года. Здесь он и похоронен. Последним могиканом бунтующей русской интеллигенции назвал писателя в некрологе его друг философ Георгий Гурвич.
Мысль о духовной жизни как высшем смысле существования человека проходит и через поздние рассказы писателя «По поводу белой коробочки» (1942). Осоргина привлекают люди, умеющие одухотворить мир. Это может быть слепой, удивительно тонко воспринимающий звуки и запахи, с нетерпением ожидающий прозрения — ему сделали удачную операцию — и вдруг осознавший, что его мир богаче мира окружающих его зрячих мещан («Слепорожденный»). Плохой уличный певец («Люсьен») и крикливый продавец газет, ежедневно выкрикивающий пошлые мировые новости («Газетчик Франсуа»), в противовес своей внешней жизни создают иную: Люсьен большую часть своего заработка тратит на дорогие розы, возлагаемые на могилу никогда не существовавшей возлюбленной; Франсуа упоенно кормит птиц в городском саду. Мальчик Жак долго, слишком долго, возвращается домой из школы, потому что по дороге создает свой совершенно замечательный мир («Мечтатель»). Сорока- или пятидесятилетний джентльмен, полюбив, оказывается в совершенно ином мире («Что такое любовь?»).
Герои названных рассказов относятся к первой категории. Мир слепорожденного состоял из звуков, запахов и намеков на очертания… Почти безошибочно он отличал белую материю от черной на ощупь: белая холоднее. Выйдя в сад, он мог знать, что сегодня небо голубое — по особой ласковости и струящейся теплоте воздуха, по более веселому звуку голосов. Солнце он знал и любил, ловил его лицом, перекатывал по коже. Воздух при солнце настаивался и густел. Еще более тонко Осоргин передает восприятие слепым музыки: Перед ним вырастала могучая, тысячецветная радуга звуков, каскад неповторимых ощущений… Порой ему казалось, что у каждого звука свой особый запах, тупой, пряный, домашний, летучий, как дым, или неотвязный, или неистребимый. В ином сочетании звуков он улавливал то же ощущение, какое испытывал, выйдя в сад в солнечный день; значит, это и есть голубое небо, зеленая трава или красное знамя.
Охваченного любовью немолодого человека Осоргин заставляет вспомнить предметы его детства и молодости: Любовь — это свежевыструганная палочка, стопа чистой бумаги, свистулька из вишневой ветки, сотовый мед, венецианская стекляшка… свет через прорезанное в ставне сердечко, вскрывшийся в апреле лед на рыбной реке, корректура первой книги, шкурка черно-бурой лисицы, отчаянный морской житель на былом московском вербном рынке, в потолок хлопнувшая пробка, звон бубенчика или детский барабан. Писатель использует преувеличенно восторженные романтизированные краски, чтобы показать, что делает любовь с человеком: Мир, в котором раньше было только несколько знакомых улочек с рестораном, мясной, зеленной лавочкой, со службой, театром и газетным киоском, а люди ходили знакомые, достоинством на три с плюсом, — вдруг этот мир осветился и наполнился висячими садами и приветливыми рожами, поющими осанну той, которая в центре и от которой многоцветным бисером во все стороны идет неистовое сияние.
Другое дело, что судьба их драматична, а финалы рассказов грустны, как грустна и сама жизнь: слепорожденный, не успев обрести зрение, уже разочарован в открывающемся ему мире; Люсьен прогнан с могилы, на которую он много лет клал цветы, родственником похороненной там женщины; Жак попал под машину; а почтенный джентльмен, узнав о развратной жизни жены, умер с горя.
И все же именно они, а не процветающие среди царствующих над людьми вещей, не рабы догм и предрассудков, не педанты и зануды оказываются, по убеждению Осоргина, вопреки житейской логике подлинными победителями в этом суровом и несправедливом мире.
Прекрасное и неповторимое останется святыней. Листы бумаги желтеют, как желтеют лепестки розы, засушенной и спрятанной на память. Но аромат слов остается, писал Осоргин в «Вещах человека». Утверждение это вполне может быть отнесено и к его собственному творчеству.
Повесть «Вольный каменщик» представляет собой уникальное явление в русской эмигрантской литературе — произведение, в котором автобиографические элементы, глубокие философские размышления о природе масонства и тонкий психологический анализ духовных поисков «маленького человека» в изгнании слились в органическое художественное целое. Произведение отличается сложной метатекстовой структурой, богатой символикой и оригинальной авторской позицией, позволяющей говорить о нем как о значительном явлении не только в творчестве самого Осоргина, но и в литературе Русского Зарубежья в целом.
Осоргин создал произведение, которое выходит далеко за рамки обычного эмигрантского романа. В «Вольном каменщике» он сумел воплотить свое понимание пути духовного совершенствования человека, показать возможность обретения внутренней свободы даже в условиях внешней несвободы. Егор Тетёхин, этот смешной и трогательный русский чудак, становится символом неистребимого стремления человека к высшим ценностям, к братству и любви. В этом смысле повесть Осоргина перекликается с великими произведениями мировой литературы, утверждающими достоинство человеческой личности перед лицом враждебных обстоятельств.
Судьба самого произведения символична. Созданное в изгнании, долгие годы остававшееся неизвестным на родине автора, оно наконец вернулось к русскому читателю, подтвердив слова Осоргина о том, что прекрасное и неповторимое останется святыней, а аромат слов не исчезает со временем.
Источники:
- Авдеева О. Ю. «Ласточки непременно прилетят…» // Осоргин М. Сивцев Вражек: Роман. Повесть. Рассказы. — М.: Московский рабочий, 1990.
- Берберова Н. Н. Люди и ложи. Русские масоны XX столетия. — Харьков — М., 1997.
- Геллер М. Михаил Осоргин — писатель на все времена // Новый журнал. — Нью-Йорк, 1988. — № 171.
- Жаботинский В. Е. О «Вольном каменщике» М. Осоргина // Последние новости. — 1937. — 11 февраля. — №5802.
- Марченко Т. В. Осоргин // Литература русского зарубежья: 1920—1940. — М.: Наследие-Наука, 1993.
- Осоргин М. А. Собрание сочинений: в 6 т. — М.: Московский рабочий; Интелвак, 1999—2005.
- Осоргин М. А. Вольный каменщик. — Париж, 1937; М.: Московский рабочий, 1992.
- Диссертация «Эволюция нравственного сознания «маленького человека» в романах М. Осоргина 1920-1930 годов» // cheloveknauka.com